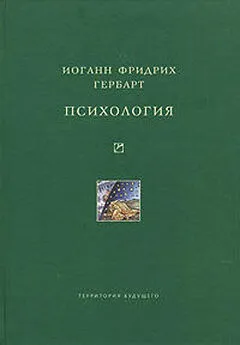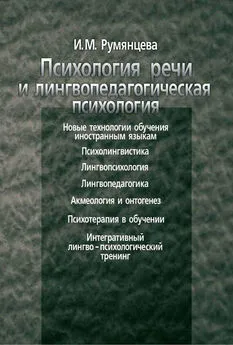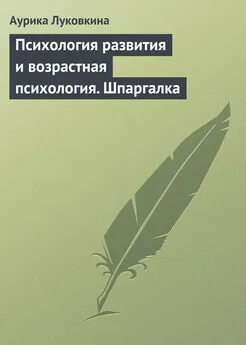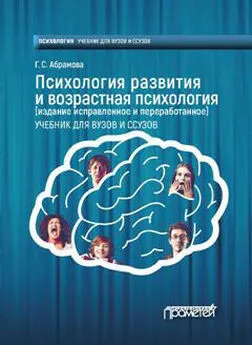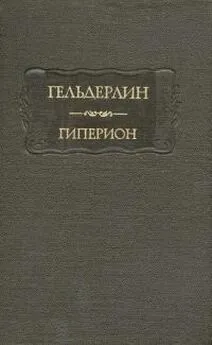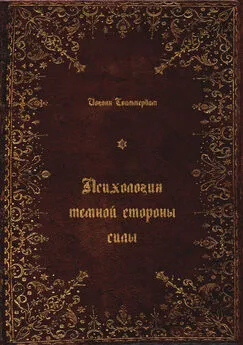Иоганн Фридрих Гербарт - Психология
- Название:Психология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Территория будущего»
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-91129-043-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иоганн Фридрих Гербарт - Психология краткое содержание
В книгу включены работы Гербарта «Психология как наука, вновь обоснованная на опыте, метафизике и математике» (извлечения) и «Учебник психологии».
Психология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
§25
Если в обыденной жизни кого-нибудь спрашивают, кто он такой, то он называет свое положение, имя, место жительства и место рождения. Те или другие внешние определения его Я управляются и его поступками. Он исполняет свою индивидуальную должность, свои семейные обязанности и проч.
Имеем ли мы, кроме этого индивидуального Я, еще какое-нибудь другое? Не допускаем ли мы в обыденной жизни ошибки, рассматривая как нечто случайное для нашей личности те обстоятельства жизни, которые, конечно, могли быть другими? Ведь, мы все-таки познаем свою собственную личность только при этих обстоятельствах и в отношении к ним.
Конечно, этот способ представления одержал бы победу, если бы только сам по себе он был выполнимым. Но, во-первых: ни в одном мгновенном восприятии я не нахожу себя только как индивидуума; лучше сказать, здесь должно приходить на помощь воспоминание. В каждом новом моменте я предполагаю себя как нечто известное из предшествующего времени. А это предполагаемое известным всегда может быть лишь настолько же неопределенным, как сумма наполовину потухших воспоминаний из различных и отчасти далеких времен. Из этого следовало бы, что я не знал бы в точности, кого я, собственно, разумел, говоря о себе как индивидууме.
Во-вторых: индивидуальные определения меня самого являются агрегатом, который постепенно вырос и теперь еще понимается в возрастании. Если бы Я равнялось этому агрегату, то оно беспрерывно изменялось бы и никогда не выполнялось. Но в самосознании мы усматриваем себя как нечто известное, существующее и уже данное налицо.
В-третьих: агрегат не обладает никаким реальным единством; он есть многое; о себе же я говорю как об едином и реальном.
В-четвертых: вся сумма моих представлений, желаний и индивидуальных состояний не образовала бы никакой личности, если бы не было субъекта, для которого те индивидуальные определения служили бы внутренним зрелищем.
В-пятых: для этого субъекта, для знания о себе самом, является случайным то, что могло бы представляться познаваемым. Поэтому отвлекаются от частных определений познаваемого и характеризуют Я как одно лишь отношение внутреннего знания к любому внутреннему течению объективных явлений.
В-шестых: только что упомянутое отвлечение еще недостаточно. Иначе Я находило бы себя рядом непостоянных явлений, хотя и без ближайшего определения этого ряда. Но субъект не может считать равным самому себе ничего, что не было бы столь же простым, как и он.
Следовательно, из Я должно выделить не только многообразие индивидуальных определений, но и общее понятие этого многообразия. И вот тогда для чистого Я не остается ничего, кроме одного лишь тожества объекта и субъекта.
Здесь мы снова приходим к вышеупомянутому грамматическому понятию первого лица, только еще с тем отрицательным определением, что это первое лицо не может мыслить как самое себя ничего из всего того, что кажется связанным с ним индивидуальным образом.
Легко заметить, что мы исходили из единства субъекта, внутреннего знания, для того, чтобы исключить многообразие объективного. При этом мы приняли, что в активном знании о самом себе никто не находит множества, что, лучше сказать, всякий рассматривает себя как единого, если ему уже предносится многообразие того, что он о себе знает. Мы присваиваем себе даже наши грезы; мы так смеемся над тем объектом, который бы мы из себя представили, если бы в бодрствующем состоянии мы были теми же самыми, какими являемся во сне. Подобно тому как мы отвлекаемся от пригрезившейся индивидуальности, для того чтобы в бодрствующем состоянии образовать понятие о самих себе, точно так же и в умозрении мы должны отвлечься от всякой индивидуальности, потому что с последним, внутренним зерном самих себя, с самосозерцанием, мы не можем отожествлять ничего пестрого и всячески изменяемого, и потому что многообразие объективное в Я, вследствие равенства с самого себя наблюдающим объектом, и этого последнего расщепило бы в агрегат многих актов знания; при этом совершенно пропало бы единство Я, за которое все-таки ручается собственное самосознание каждого.
§26
Подведя итог всем предшествующим рассуждениям, мы получаем следующее.
Философское определение Я, как тожества субъекта и объекта, потому кажется удаленным от данного, что оставляет в стороне временное восприятие. Но этим оно только доводит до конца и прямо высказывает то, что мы неопределенно начинаем в обычной жизни. Именно, в каждое мгновение мы предполагаем себя как нечто известное, и новые определения, приносимые мгновением, рассматриваем как нечто случайное, так что мы остались бы совершенно теми же самыми, если бы с нами произошли совсем другие события. Отсюда возникает понятие нас самих, которое не мирится ни с какими случайностями – ни с прошедшими, ни с будущими.
А так как временное восприятие или внутреннее чувство надо отделять от самопознания (Selbstauffasung) в собственном смысле, то, конечно, кажется, будто мы имеем совершенно особую основную способность к этому самопознанию. И так как все-таки довольно трудно сказать, что собственно служит предметом чистого самосозерцания (именно здесь чувствуется затруднение, возникающее из тех противоречий в понятии Я, которые подобно развиваются в следующей главе): то возникает склонность наделять чистое Я всякими предикатами, что становится источником многих ложных заключений (между прочим, у Фихте).
Здесь уместно вспомнить утверждение Канта, что Я есть чисто интеллектуальное представление, но вместе с тем – самое бедное из всех. Первая половина этого утверждения допускает, что понятие Я нельзя определить внутренним восприятием. Вторая половина может служить предупреждением для тех, которые думают, что можно без труда указать содержание представления чистого Я. Впрочем, здесь встречается двойная ошибка: с одной стороны, в поспешном признании чисто интеллектуальной способности (Krit. d. r. V. S.423, в конце), а, с другой, в забвении грамматического понятия Я, которое, противополагая и отожествляя субъект и объект, дает умозрению гораздо больше дела, чем другие бесчисленные понятия, более богатые по своему содержанию.
Кто же имеет в виду отмеченные выше трудности отделить себя от индивидуальных определений Я, и сверх того старается в умозрительных понятиях Я провести только что указанное отвлечение от индивидуального еще дальше, чем это происходит в обыкновенном сознании, тот уже может догадываться, что отношения Я к индивидуальности хотя и скрыты, но тем не менее даны, и что успех умозрения должен сводиться именно к вскрытию этих отношений в их необходимости, вместе с чем исчезает основная способность чистого самопознания, и внутреннее чувство получает свое надлежащее объяснение. Так бывает и на самом деле. Философское определение только доводит до крайности общее представление Я для того, чтобы натолкнуть его на очевидные невозможности. Отсюда ясно, что понятие Я, которое было обманчивым порождением нашего мышления, нуждается в некотором улучшении, и что здесь, как и в других случаях, философия должна прояснить ту темноту обычного сознания, которая вводит в заблуждение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: