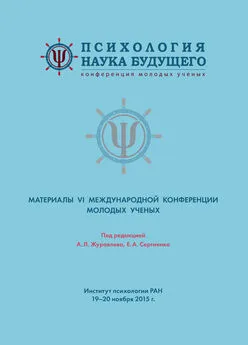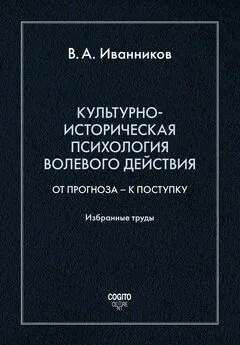Майкл Коул - Культурно-историческая психология – наука будущего
- Название:Культурно-историческая психология – наука будущего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:0-674-17951-X, 5-201-02241-3, 5-201-02243-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Майкл Коул - Культурно-историческая психология – наука будущего краткое содержание
Культурно-историческая психология – наука будущего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эти суждения, в которых слышны отзвуки европейских предрассудков столетней давности о примитивном мышлении, хотя я тогда этого и не понимал, основаны на ущербной модели культурных различий. Человек, не справляющийся с головоломкой, должен иметь перцептивные проблемы; ребенок прибегает к механическому запоминанию не в ответ на способы преподавания в школе, но вследствие привычек, коренящихся в культуре. Совершенно интуитивно мне не хотелось верить в эти обобщения. От неспособности справиться с головоломкой до общей перцептивной недостаточности – немалое расстояние.
Посещения школ открыли мне основания некоторых из этих суждений. Во многих классах я видел учащихся, занятых механическим запоминанием. От них не только требовалось рассказывать по памяти длинные отрывки из европейской поэзии, которые они не могли понимать, но, казалось, дети были твердо убеждены, что и математика тоже была предметом для заучивания. Учителя жаловались, что когда они, показав пример вроде 2+6=? в классе на уроке, затем давали пример 3+5=? при контроле, ученики протестовали, утверждая, что такая проверка несправедлива, поскольку содержит материал, не рассмотренный на уроке. Подобные сцены случаются и в американских классах, но в либерийских классах они, по моим наблюдениям, происходили непрерывно. При встречах с местным населением, чья жизнь организована в формах традиционных культурных практик, а не в виде некоего сектора современной экономики, для поддержки которой и вводилось школьное обучение, я получал совершенно другое впечатление об интеллектуальных способностях кпелле. На переполненной рыночной площади люди торговали всеми видами товаров, от традиционных, таких, как рис, разделанное мясо или ткани до современных, таких, как детское питание, металлические изделия и строительные материалы. В местных автобусах я не раз бывал обсчитан водителями, которые при этом не испытывали, видимо, никаких трудностей, заставляя некую единую формулу, учитывавшую расстояние, качество дороги, качество автомобильных рессор и число пассажиров, работать себе на пользу.
Вопросы, возникшие из этих наблюдений, остаются со мной и по сей день. По тому, как они справлялись с головоломками или успевали по математике в школе, кпелле казались тупыми; по их поведению на рынках, в такси и многих других местах они выглядели смышлеными (во всяком случае, смышленее одного американского визитера). Как могли люди быть такими тупыми и такими смышлеными одновременно?
Наши первые исследовательские усилия основывались на двух простейших предположениях. Во-первых, мы полагали, что хотя детям кпелле, возможно, и недостает некоторых определенных видов опыта, в целом они не абсолютно невежественны. Во-вторых (и это тесно связано с первым), мы полагали, что практика приводит к успешности, если не к совершенству: люди становятся умелыми в процессе выполнения задач, с которыми они часто имеют дело. Следовательно, если мы хотели понять, почему дети кпелле испытывают такие трудности с решением задач, которые мы считаем относящимися к математике, мы должны были изучить условия, при которых люди кпелле встречаются с чем-то таким, что для нас означало бы математику. Это значило, что нам надо было изучить те повседневные занятия людей, которые предполагали измерения, предварительную оценку, счет, расчеты и тому подобное как предварительное условие выявления местных математических представлений в связи с обучением. Мы также исследовали способы, которыми взрослые кпелле обеспечивали освоение их детьми знаний и навыков, необходимых, чтобы стать компетентным взрослым кпелле, в качестве основания для оценки трудности обучения.
В этом исследовании мы применяли как задания, ввезенные непосредственно из Соединенных Штатов, так и задания, моделировавшие жизненную практику племени кпелле. Первые включали задания на классификацию, картинки-головоломки и словарные тесты типа тех, что часто входят в IQ-тесты. В работе с этими материалами иногда обнаруживались ожидаемые трудности, иногда – нет. Например, в одном из опытов по классификации мы попросили испытуемых разложить восемь карточек, изображавших большое и маленькое, черное и белое, треугольники и квадраты, по двум категориям, а затем попросили изменить категории и разложить по двум другим. Эта задача оказалась довольно сложной, взрослым часто было мучительно трудно принять решение, например, разложить карточки по цвету. Очень немногие оказывались способны разложить их по форме или по размеру. Трудности остались, когда мы заменили геометрические фигуры стилизованными изображениями мужчины и женщины. Однако в одном из случаев, когда мы попытались смоделировать способы деятельности кпелле, результаты оказались разительно иными.
Народ кпелле традиционно разводил рис, продавая его излишки для пополнения своих (очень низких) доходов. Рисоводство не было слишком успешным сельскохозяйственным предприятием, и в большинстве деревень два месяца между окончанием прошлогодних запасов и сбором нового урожая называли «голодным временем». Исходя из центральной роли этого единственного урожая для их выживания, можно было ожидать, что у кпелле будет довольно богатый словарь для разговоров о рисе. Особенно важным для нас было то, как они говорили о количестве риса, поскольку довольно часто приходилось слышать, что кпелле «не могут измерять», и мы хотели проверить это на важном для них материале.
Дж. Гэй обнаружил, что их обычной минимальной мерой для риса была «копи» – оловянная кружка емкостью в одну сухую пинту. Рис также складывали в «боуки» (ведра), «тины» (оловянные бидоны) и мешки. Копи служила основной единицей измерения. Считалось, что в боуке двадцать четыре копи, а в тине – сорок четыре, при этом один тин равен двум боукам. Люди утверждали, что «боро» (мешок) содержит почти точно сотню копи или приблизительно два тина. По нашим стандартам соотношения между кружками, ведрами, бидонами и мешками не точны, однако довольно близки к точным и отражают использование основной меры – копи.
Мы также узнали, что действия покупки и продажи риса с помощью кружки хоть и не сильно, но существенно различались. Когда местный торговец покупал рис, он использовал копи с выгнутым наружу дном, чтобы увеличить емкость; когда он продавал рис, он использовал копи с плоским дном. Мы предположили, что эта небольшая разница могла оказаться очень существенной для людей, называвших два месяца в году «голодным временем», поэтому мы решили провести эксперимент со способностью людей оценить количество риса в мешке, используя местный измерительный инструмент – копи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: