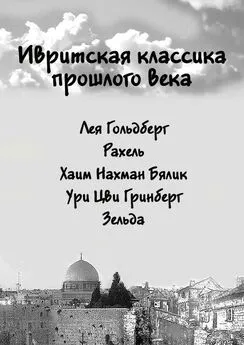Array Коллектив авторов - Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу
- Название:Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»
- Год:2007
- Город:М.
- ISBN:5-89826-264-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу краткое содержание
Особенностью замысла и построения книги является то, что представленные направления даны не изолированно, но в отношении друг к другу и к ключевым традициям российской антропологии, широко представлены материалы дискуссий.
Книга адресована широкому кругу, в том числе культурологам, психологам, философам, методологам. Особенно актуальна она будет для студентов гуманитарных вузов и тех, кто только начинает свой путь в науке.
Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Собственно, та ситуация, в которую должен завести учащегося педагог и сам одновременно оказаться в ней, и является личностногенной . Процесс персонализации – кристаллизация личности и ее рост – как раз и начинается в подобных ситуациях. В этом контексте нам очень важно различить понятия «среда» и «ситуация». Ситуация, в отличие от среды, характеризуется определенной несвязностью и рассогласованностью (специально сценированными и продуманными) позиций действия учащегося и педагога. Смысл подобного рассогласования состоит в том, чтобы сделать невозможными автоматизм и предзаданность в поведении и действии как учащегося, так и педагога, и как можно больше ввести в реальный план проработки, понимания и анализа непосредственно проявляемой активности участников ситуации. В ситуации учения-обучения любой ее участник подводится к необходимости осуществить самостоятельный выбор и действие, которые изменят саму ситуацию. Этот выбор и действие абсолютно не спроектированы (предзаданы) и требуют творческого решения со стороны самого участника ситуации.
За построением ситуации стоит особый тип мыследеятельности, который определяет профессионализм педагога, способного создавать ситуации развития, – мыследеятельность сценирования 20. В отличие от ситуации учения-обучения образовательные среды 21 проектируются, а предметные элементы (наполнения) этих сред конструируются. Построение образовательной среды предполагает создание устойчивого каркаса, в котором может реализовываться активность учащегося и педагога в соответствии с формируемым ландшафтом среды. Эта активность очень часто может носить импровизационный и спонтанный характер. Этим и образовательная среда, и ситуация учения-обучения отличаются от директивной классно-урочной системы. Но, в отличие от образовательной среды, ситуация учения-обучения направлена на то, чтобы ставить учащегося и педагога в жестко заданные параметры типа спонтанности и импровизационной активности. Если педагог и учащийся не будут спонтанны, они не смогут найти выход из ситуации. Но если эта спонтанность будет организована по типу поведения самовыражения, мы не создадим условия для осуществления акта развития, связанного с преобразованием себя.
Поэтому мы считаем невозможным обеспечивать личностный рост ребенка на основе средового подхода, но сам этот подход необходим для разработки и создания специальных сценариев ситуаций развития.
Средовой подход является очень мощной технологией на определенном этапе, обеспечивающей развитие сознания ребенка в тех границах и пределах, где рост сознания может быть отщеплен и осуществляться независимо от роста личности и личностной формы. Но возможность развития сознания связана с экстериоризацией в виде образовательной среды самой детско-взрослой образовательной общности. И здесь мы переходим в область генетико-коммунитарной психологии, поскольку именно это направление психологии, представленное прежде всего в работах В. Вундта, Н. Аха 22, Г.Г. Шпета и затем в исследованиях В.В. Рубцова, А.-Н. Перре-Клермон, В.И. Слободчикова, Н.А. Масюковой, показывает, что ключом к развитию сознания является выявление для ребенка принципов усложнения общности, в которую он включен и членом которой он является.
Выделяемые принципы усложнения общности являются одновременно принципами усложнения сознания. Сфера сознания и прорабатываемая, осваиваемая ребенком общность являются синхронизированными (К.Г. Юнг), согласующимися, но автономными планами реальности. Именно здесь срабатывает важнейшая фигура воображения (подчеркивавшаяся и выделявшаяся вслед за Э.В. Ильенковым В.В. Давыдовым) о представленности «Я» в сознании другого человека.
Проблема анализа и проработки самой общности предполагает выделение для сознания ребенка самого разнообразного набора расчленений и типа языков, которые оказываются включенными в общность и могут быть выделяемы и буквально обнаруживаемы в ней. Это и роли, и персонажи, и позиции, и маски, и места с соответствующими разными типами реальностей – производственно-функциональные в виде системы игровых, учебных, трудовых и воспитательных коллективов, семейно-ролевые и родо-архетипические реалии с трикстерами, колдунами, магами.
Безусловно, при этом не следует занимать позиции формального натурализма и считать, что все заранее содержится для сознания учащегося в коллективе и группе как в натурально представленном объекте. Значительно более эффективно признавать, что открытое как для информационно-энергетических, так и для разнообразных средовых токов эволюционирующее и растущее сознание способно нечто проецировать в общность и выделять из нее новые особенности и характеристики, меняясь на основе подобных обнаружений. Собственно, подобный принцип согласованных проекций сознания на общность и общности на сознание и является фундаментальной онтологической основой функционирования образовательных сред. Но тогда все это – предмет рассмотрения образовательной консциентологии, консциентономии и консциентографии. Образование, инициирующее возникновение личности и личностный рост, не может анализироваться и разрабатываться в этом наборе дисциплин, поскольку у них совершенно другой объект изучения.
Личностногенный акт возникает перед лицом не гарантированной, но возможной гибели моего сознания и самосознания и физического «меня», а также промысливания условий моей возможной гибели: что будет, если я умру или самая важная часть меня умрет? Даже атеистическое проживание своей возможной смерти и мыслей о собственной смерти всегда выступает стимулирующим, активизирующим актом при возвращении к мыслям о жизни. Оно, правда, чаще всего выражается в идеологии гедонизма и утилитаризма: «Лови любое мгновение жизни и утоляй собственную потребность в удовольствии», либо «Не трать ни одной секунды попусту!»
Безусловно, в промысливании собственной смерти с человеком может случиться любая беда: он может приобрести психические расстройства, стать душевнобольным или даже умереть. В этом смысле духовно-виртуальное путешествие в свою смерть всегда опасно. В традиционной культуре обряд инициации, требовавший «хождения» в свою смерть и обращения к миру умерших, совершался с мужчинами в возрасте 27–28 годов. Но открытое ко всему, что происходит в мире, детское сознание совершает хождение в смерть значительно раньше. И более того, детская духовная и религиозная одаренность, в отличие от математической, проявляется в очень раннем детском возрасте (по нашим данным, 5–7 лет) в вопросе: «Папа, мы все умрем?» 23
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: