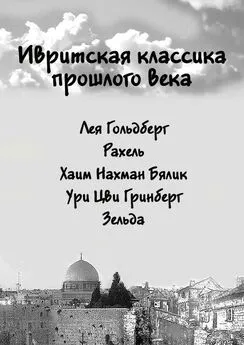Array Коллектив авторов - Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу
- Название:Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»
- Год:2007
- Город:М.
- ISBN:5-89826-264-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу краткое содержание
Особенностью замысла и построения книги является то, что представленные направления даны не изолированно, но в отношении друг к другу и к ключевым традициям российской антропологии, широко представлены материалы дискуссий.
Книга адресована широкому кругу, в том числе культурологам, психологам, философам, методологам. Особенно актуальна она будет для студентов гуманитарных вузов и тех, кто только начинает свой путь в науке.
Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Преобразование себя на этом этапе формирования способности мышления более тесно связано с освоением-пониманием того, как устроена единица мышления в виде понятия. Хотя и здесь могут происходить определенные парадоксальные продвижения ребенка. Особенно не задумываясь и не рефлектируя, чего они не могут, дети «проскакивают» в понимании сразу к освоению общего способа, схватывая отношения идеального и выражая их при помощи моделей. Именно в этом случае оказывается справедлива мысль Г.П. Щедровицкого: «…человека, движущегося по содержанию, не надо воспитывать».
В принципе за подобными разными стратегиями решения учебной задачи лежит разное значение и разный уровень развитости способностей понимания 25и рефлексии. Учебная задача по Д.Б. Эльконину требует большей опоры на рефлексивность, а общая задача по В.В. Давыдову – на понимание. Даже при рассмотрении более сложной организации мыследеятельностных функций рефлексии и понимания – рефлексивного понимания и понимающей рефлексии 26, при анализе роли рефлексии 27в решении учебной задачи по В.В. Давыдову, все равно рефлективность как таковая в большей степени связана с обнаружением недостатка собственной организации учащегося, а понимание – с прорывом в освоении объективного содержания.
Но при рассмотрении личностно-инициирующей учебной ситуации две эти разные понятийные фокусировки на единую практику освоения и решения учебной задачи расходятся в еще большей мере. И все дело в том, что за двумя этими разными представлениями об учебной задаче лежат два разных образца развития: в одном случае образец святости и опыт монашеской аскетической работы, а в другом – образец художественной и научной гениальности и опыт художника-творца, ученого-творца 28: «Не только дело в том, что и святой – подвижник, и поэтический гений, каждый по-своему, служит своему народу и своей культуре, один – искупительным преображением человеческой природы, другой – ее творческой реализацией в разных средах жизни». Эта обобщающая мысль О.И. Генисаретского позволяет выделить своеобразную архетипическую модель устройства русской культуры, и она надстраивается над принципиальными и очень конкретными размышлениями Н.А. Бердяева в его «Философии свободы», которые в своей статье приводит О.И. Генисаретский:
«В начале XIX века жил величайший русский гений – Пушкин и величайший русский святой – Серафим Саровский. Пушкин и св. Серафим жили в разных мирах, не знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались… Русская душа одинаково может гордиться и гением Пушкина, и святостью Серафима. И одинаково обеднела бы она и от того, что у нее отняли бы Пушкина, и от того, что отняли бы Серафима. Святой творит самого себя, иное, более совершенное в себе бытие. Гений творит великие произведения, совершает великие дела в мире. Лишь творчество самого себя спасает. Творчество великих ценностей может губить. Святой Серафим ничего не творил, кроме самого себя, и этим лишь преображал мир. Пушкин творил великое, безмерно ценное для всего мира, но себя не творил. В творчестве гения есть как бы жертва собой. Делание святого – это прежде всего самоустроение. Пушкин как бы губил свою душу в своем гениально-творческом исхождении из себя. Серафим спасал свою душу духовным деланием в себе» 29.
Приведем также еще два кусочка из того же места книги Н.А. Бердяева «Смысл творчества», углубляющего смысл им сказанного: «Если бы Александр Пушкин был святым, подобным св. Серафиму, он не был бы гением, не был бы поэтом, не был бы творцом. Но религиозное сознание, признающее святость, подобную Серафимовой, единственным путем восхождения, должно признать гениальность, подобную пушкинской, лишенной религиозной ценности, несовершенством и грехом. Лишь по религиозной немощи своей, по греху своему и несовершенству был Пушкин гениальным поэтому, а не святым, подобным Серафиму» 30. И далее: «Я верю глубоко, что гениальность Пушкина, перед людьми как бы губившая его душу, перед Богом равна святости Серафима, спасавшей его душу. Гениальность есть иной религиозный путь, равноценный и равнодостойный пути святости(выделено мной. – Ю.Г. ). Творчество гения есть не мирское, а «духовное» делание. Для божественных целей мира гениальность Пушкина так же нужна, как и святость Серафима» 31.
Нам очень важно обратить внимание на то, что учебная задача по Д.Б. Эльконину, доведенная до своего предела, есть не что иное, как монашеский аскетический труд святого. Как только человек в преобразовании себя обнаруживает, что его душевная и личностная чистота превышает уровень средневзвешенных приличий и условной конвенциональной нормативности, он, для того чтобы продолжать начатый им труд, будет вынужден переходить на путь монашеско-аскетического подвига, но лишь при условии вхождения в сферу религиозного сознания.
И наоборот, предел в освоении способов решения учебных задач по В.В. Давыдову состоит в том, что человек начинает создавать (переоткрывать) общие мыслительные способы и встает на путь творца, культивируя личностную гениальность. Мы отвлекаемся в данном случае от сложного вопроса, связанного с тем, что для того чтобы стать святым или гением-ученым, гением-художником необходимо обладать высоким уровнем одаренности.
Таким образом в личностногенной ситуации учения-обучения учащийся может внутренне тяготеть, сам того не осознавая, в большей степени к одному из культурно-архетипических образцов – образцу святости и образцу гениальности. Для формирующейся личности всякого человека, на наш взгляд, важно сохранить, по крайней мере, возможность коммуникативного контакта с каждой из этих ипостасей. Но с другой стороны, неосторожное действие педагога в подобной ситуации, его духовная нечуткость, может нас лишить возникновения новых Пушкиных, с идеологическим рвением намереваясь творить исключительно новых св. Серафимов, которые, кстати, осознав свою полную непригодность подобным задачам, очень быстро станут крушителями дела церковного. Либо наоборот, отвлекая от внутреннего делания детей духовно-чутких, прельщать их исключительно дарами мира сего, формируя людей творческих, но часто стремящихся найти источники вдохновения в чем-то низком через раскованность и ниспровержение высших ценностей.
Что же получается в результате продвижения учащегося в личностногенной ситуации, то есть в ситуации, в которой начинается генезис личности данного человека в результате и на основе инициирующего образования? Своеобразными продуктами этого продвижения являются метаспособности сознания или, как их предлагал называть замечательный религиозный философ, мистик, режиссер Е.Л. Шифферс, сверхспособности. Кстати, это в какой-то мере возможное сближение метаспособностей и сверхспособностей выражено во французском понятии sûrrabilité, где приставка sûr означает одновременно и «над», и «сверх».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: