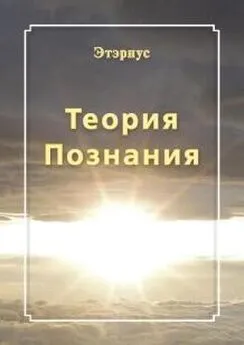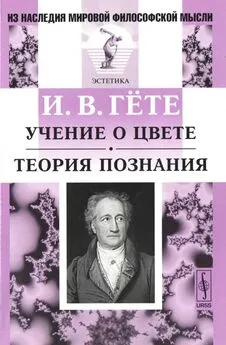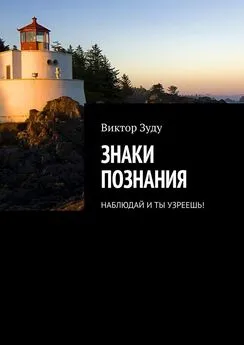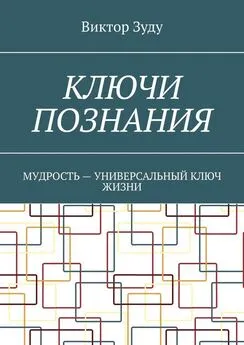Виктор Ильин - Теория познания. Философия как оправдание абсолютов. В поисках causa finalis. Монография
- Название:Теория познания. Философия как оправдание абсолютов. В поисках causa finalis. Монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Проспект (без drm)
- Год:2016
- ISBN:9785392191567
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Ильин - Теория познания. Философия как оправдание абсолютов. В поисках causa finalis. Монография краткое содержание
Теория познания. Философия как оправдание абсолютов. В поисках causa finalis. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уровень «Я» . В социологии «Я» – носитель функционально-ролевой частичности, сказывающейся в осознаваемой групповой принадлежности («социальная идентичность»). В психологии «Я» – носитель демонстративных модусов: модус непосредственности – «Я» как актуальное самопроявление; модус желательности – «Я» как установленное самопроявление; модус представленности – «Я» как маскированное самопроявление. В антропологии «Я» – субъективно целостный уникум, самотождественная самость, интегрально подлинное одноличие, противостоящее «иному» в одушевленном («другой») и неодушевленном (мир, бытие, сущее) планах.
«Я» как интегральное автономное эго, нерасчлененное «психофизическое целое», «жизненная единица» нерационализируемо, концептуально нереконструируемо. Способ самозаявления такого рода «Я» – самоуглубление, самососредоточение, в тоске «по порыву о правде» (А. Белый) взыскующее самоопределения, саморазрешения. «Наше высшее решение, наше спасение, – утверждает Ортега, – состоит в том, чтобы найти свою самость, вернуться к согласию с собой, уяснить, каково наше искреннее отношение к каждой и любой вещи» 58. Суть не в пресловутом самокопании, о котором Гердер высказывал: «Горе несчастному, который наслаждается жизнью, копаясь в глубинах своего существа» 59, а в самообретении, задании и создании аутентичного пространства самости.
Самопознание, самооткрытие, самораскрытие «Я», выявление того, что в нем подлинного, самобытного реализуется в самопостижении, локус которого – противопоставленное всеобщей коммуникации, обеспечивающее простор субъективного духа убежище, потаенное место, где никто не мешает 60.
Есть вещи, которые делаются для чего-то, а есть вещи, которые делаются для самих себя, – напоминает Аристотель. Для самих себя – внутреннее продумывание как глубинная компенсация публичности, внешней ролевости, функциональности. Очень важно уточнить свое нахождение в общем потоке, для чего надо «не плыть по течению, а уметь задуматься… оглянуться, подвергнуть сомнению правильность принятого решения и опять искать, искать…» 61.
Последнему благоприятствует уединение, вдали «от мира суеты», склоняющее к рефлексии, самонаблюдению, самоосознанию. На этом основании противопоставляются гора и агора, келья и публичное место, пещера и казенный дом 62. Сокровенное, противостоя массовому, вызывает суд собственный, презирать который невозможно 63.
Одержимая безостановочная катарсическая молитва и вдохновение, отправляемые «Я» без «срочной словесности» (Даль), в случае обнажения перед обществом обретают плоть исповедальных текстов. В данном жанре (дневники, исповеди, автобиографии, откровения, излияния, признания) активно пробовали себя Марк Аврелий, Августин, Монтень, Руссо, Кьеркегор, Герцен, Дали, Розанов, братья Гонкуры, А. Франк, Толстой, Шевченко, Башкирцева, Есенин, Никитенко, Крюденер, Витгенштейн, Чуковский, оставившие бесценные свидетельства персонального «на все времена». (Трагическую неотвратимость конфликта публичного и личностного в исповедальном прямолинейно снимал Розанов, откровенно высказываясь в пользу личностного: «Со временем литературная критика, – писал он, – вся сведется к разгадке личности автора… И вот в этот зрелый, августовский или сентябрьский период истории литературы, письма авторов, посмертно собранные и напечатанные, приобретут необычайный интерес, значительность и привлекательность».)
Уровень «Ты» . Акты конституирования «Я» чего бы то ни было – сугубая произвольность; от них невозможно перейти к бытию ни «иной», ни «собственной» потенциальности. «Я» как порождающая инстанция – бедно, пусто. «Человек, предоставленный самому себе, – заявляет Бердяев, – оставленный с самим собой и своим «человеческим», бессилен и немощен, ему не открывается истина, не раскрывается для него смысл бытия, не доступен ему разум вещей» 64.
Путь к «иному» мостится предметной дифференцировкой взаимодействия «Я» с «не-Я». В социальной плоскости это – коммуникация. «Отдельный, отъединенный человек, – замечает Фейербах, – как нечто обособленное не заключает человеческой сущности. Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека с человеком» 65. Подлинность человека выявляется, удостоверяется другим человеком; тихая обреченность, неполноценность, отщепенство, разорванность с миром, дно бесовства, бесцветная невменяемость ego преодолеваются контекстом завязывания мирового интереса в контактах с alter ego. «Два человека, – настаивает Фейербах, – необходимы для образования человека – духовного в такой же мере, как и физического. Общение человека с человеком есть первый принцип и критерий истинности и всеобщности» 66. В ментальной плоскости это – аппрезентация. «Я» наращивает собственную потенциальность не вследствие саморазъедающего анализа, но вследствие прирастания «Ты» в приведениях его в соприсутствие. Богатстве «моего», следовательно, имеет источником огромный головокружительный ресурс отношений с «другим» в неизменно расширяющемся сообщественном опыте.
Уровень «Мы» . Нерв антропологического – межсубъективное взаимодействие, фундируемое равноправием его агентов. Однако же интенциональные горизонты, проступающие на срезах в обмене деятельностью «Я» с «Ты», чреваты заявлением «особого характера» субъективности. Вектор самости с установкой «не как все» привносит в коммуникацию элемент нерезонансности инстанций субъективного.
Разносубъективность, следовательно, способна выказывать себя под углом зрения демонстрации преимуществ «Я» перед «Ты» и vice versa. Выхваченная лучом света полная картина отношения «Я» к «Ты» сводится к исходам:
а) «Я» поглощает «Ты» – репрессивная затратность;
б) «Ты» поглощает «Я» – репрессивная мучительность.
Насильственная опека в коммуникационных конфигурациях «Я» и «Ты», говоря словами Вышеславцева, – принудительная спекуляция на понижение субъективности, представляет высшую и наиболее комичную форму глупости. От а) и б) выгодно отличается
в) «Я» и «Ты», удостоверяя самозначимость, в опыте сопринадлежности, сродства, единства образуют «Мы» 67.
Экзистенциальный акт и мотивация образования «Мы» распадается на случаи:
• непосредственное индивидуальное общение tet-a-tet, именуемое Шюцем Umwelt;
• анонимное, функционально опосредованное общение при отыгрывании социальных ролей – Mitwelt.
Оба типа общения строго разнесены по локусам обмена деятельностью, выход за границы которых обусловливает гиперболизацию (фамильярность) либо десикацию (тоталитарная корпоративность) «Я».
Уровень «Они» . Ассоциативный модус субъективности, получаемый как оппозиция соучастной общности «Мы». «Они» выявляется и проявляется на сравнительной основе целеустремительных тенденций, а именно: где мотивации (а) «для того, чтобы» (цель) и (б) «потому, что» (обстоятельства) корректируются диалогическим отношением ипостасей, неслиянное единение личностей («Мы») заменяется контрагентным. В последнем основное – не допустить упирающуюся в неразрешимость бескомпромиссно стальную безотчетность, влекущую проживание жизни навыворот. Истребительные противопоставления «Я» – «Мы» и «Мы» – «Они» обрекают на бесцветно-невменяемые тупики эгоизма, когда то «Я», то «Мы» ничего не должны, свободны, делают, что хотят.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: