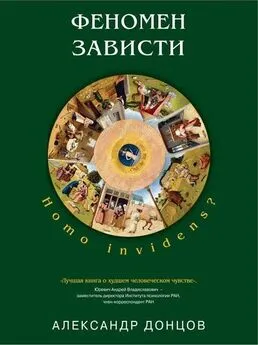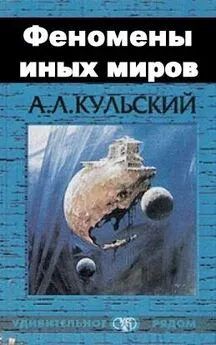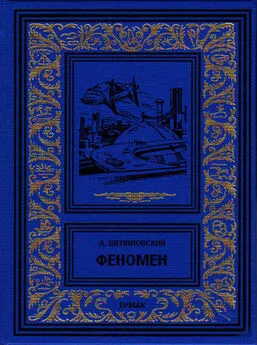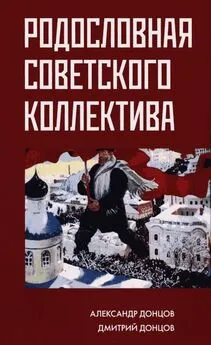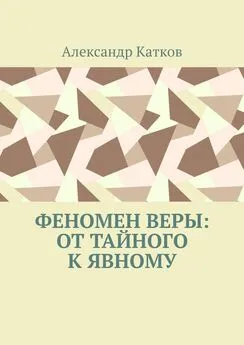Александр Донцов - Феномен зависти. Homo invidens?
- Название:Феномен зависти. Homo invidens?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Эксмо»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-74716-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Донцов - Феномен зависти. Homo invidens? краткое содержание
Феномен зависти. Homo invidens? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как это сделать? Вариант поведения, не требующий больших затрат, – очернитьсоперника. Очернять кого-либо – порочить, хулить, поносить, ославить, оклеветать. Как видим, в русском языке зависть связывается как с мучениями завистника, так и с попытками причинить страдания объекту, точнее – жертве зависти. «Его очернили по зависти, домогаясь места его», – пишет Даль, иллюстрируя этот седьмой смысловой оттенок зависти. Следующий, восьмой свидетельствует, очернением отношение завистника к «жертве» не ограничивается. Жалить, т. е. язвить, колоть, ранить жалом, тонким лезвием, могут не только насекомые, жгучие растения или змеи, но и люди, одержимые злобой или завистью. А ведь стоит в этом слове изменить всего лишь одну букву, и картина радикально меняется. Жалеть кого или о ком – щадить, беречь, не давать в обиду, проявлять сострадание, соболезнованье, сочувство при чужой беде, скорбеть, болеть сердцем, сокрушаться, печалиться… Вправе ли я сопоставлять значение этих слов? Думаю, да: у них общий корень – жало, от которого, кроме того, образованы глаголы «жаловать» – оказывать милость, одарять и «желать» – стремиться к чему-либо, хотеть. Вожделение, страсть внутренне включают, таким образом, мотив горя, печали. По мнению П.Я. Черныха, автора «Историко-этимологического словаря современного русского языка», «значение «жалеть», «сожалеть» вторичное по сравнению с «желать» и возникло «может быть, еще в праславянскую эпоху как следствие смешения глаголов zeleti и zaleti» [22] Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. Т. 1. М., 2007. С. 295.
. Полагаю, столь давнее и полное смешение этих глаголов обусловлено не только семантически, но и психологически. В каком-то смысле любая страсть – печаль о недостающем, которым, возможно, обладает некто другой. Во французском языке острое желание и зависть обозначаются одним словом – l’envie, в русском подобная сцепка менее очевидна, но несомненна.
Вернемся к далевским семантическим контекстам зависти. Заслуживающий упоминания девятый – связь зависти с лихостью. Лихой – еще одно двусмысленное слово. Может означать «молодецкий, хватский, бойкий, проворный, щегольской, удалой, ухорский, смелый и решительный», а может – «злой, злобный, мстительный, лукавый». Лихой малый, лихие кони, лихой наездник и рядом: лихой человек, лихое дело, лихая сторона. Впрочем, это понятно. Мне не раз приходилось слышать присказки типа «не поминай лихом», «лиха беда начало» и т. п. Но не знал: лихим могли назвать злой дух, сатану, вообще ворога, зложелателя. А в Псковской и Тверской землях лих (существительное мужского рода) означал злобу, зависть, злорадство. Лих-то велик, да силы нету-ть. В лихости и зависти нет ни проку, ни радости. Отсюда, возможно, лиходей – враг, неприятель, злодей, зложелатель, злорад, а также лихостной – злобный, мстительный, завистливый, злорадный. С лихостью перекликается и еще один, десятый смысловой нюанс зависти в словаре В.И. Даля: возможность поименовать зависть задором. Задирать – «начать драть; зацеплять и рвать; залуплять, вздымать с конца, с краю, загибать кверху», а также «привязываться, приставать к кому, вздорить, быть зачинщиком ссоры» и, наконец, «драть до конца, до смерти». Примеры: не задирай заусеницы; экой буян, всех задирает; медведь задрал корову. Отсюда задор – соревнование, досада на сопротивление, упрямство, самонадеянность, зависть. О задранных заусенцах можно было бы не упоминать, если бы не поразившее меня совпадение с одним из труднообъяснимых значений l’envie.
Кроме того, показалось знаменательным отмеченное Далем сравнение зависти с ехидной. Как известно, так именуют, во-первых, покрытых иглами австралийских яйцекладущих млекопитающих, питающихся термитами, муравьями и другими почвенными беспозвоночными, во-вторых, ядовитых змей семейства аспидов, а до середины XIX в. – ядовитых гадов и иных «фамилий». В-третьих, Ехидной (Эхидной) – от греческого echidna – «змея» – звали одно из чудовищ греческой мифологии – полуженщину-полузмею, от союза с чудовищным змеем Тифоном родившую сторожащего аид пса Цербера, огнедышащую Химеру, одна из трех голов которой была змеиной, и кровожадную любительницу загадок Сфинкс. Тема «змеи» оказалась настолько тесно переплетена с проблематикой зависти, что воплотилась в иконографии этого порока. Она заслуживает специального обсуждения, и к нему мы непременно обратимся. Пока же вернемся к словам. Думаю, причины, по которым злого, язвительного и коварного человека иногда называют ехидной, не требуют дополнительных разъяснений. Не случайно в этом переносном значении данное слово употребляется с древнейших времен. Трудно понять, как в ядовитое семейство змееподобного чудовища, собственно змеи и зловредного человека попал безобидный однопроходный муравьед. Видимо, за колючие иголки, защищающие вынашиваемое в сумке яйцо. Ехидничать, обороняясь, наверняка приходилось и большинству «старших братьев» муравьеда, не уязвленных ядом зависти. Вопрос в том, существуют ли такие люди? Легче всего, вероятно, остаться независтливым в окружении незавидных людей, т. е., по Далю, посредственных, плохих и по дурному качеству своему не возбуждающих зависти. Подозреваю, однако, жить среди посредственности – наказание, сравнимое с муками зависти.
За свой словарь в 1863 г. В.И. Даль удостоен звания почетного академика Петербургской академии наук. Не стоит, как это иногда бывало, упрекать автора за пренебрежение литературно-книжным языком и очевидный приоритет, отданный простонародной разговорной речи. Но если для В.И. Даля родником и рудником для добывания слов служила исключительно живая устная речь, возможно, это как-то сказалось на толковании интересующей нас зависти? Чтобы проверить несколько надуманное предположение, обратимся к трудам современника Владимира Ивановича, родившегося двумя годами ранее, но прожившего вполовину меньше, современника, которого единодушно называют родоначальником современного русского литературного языка. Догадались? Конечно, я говорю об Александре Сергеевиче Пушкине.
Откроем второй том «Словаря языка Пушкина» [23] Словарь языка Пушкина. Т. 2. М., 1957.
, изданного в 1957 г. Институтом языкознания Академии наук СССР: слова «зависть», «завидовать», «завистник», «завистливый» использовались поэтом многократно, в разных, сегодня подчас неожиданных контекстах. Так, завистливыми оказались не только подруги, глаза, взоры, желанья, традиционно ассоциирующиеся с завистью, но и судьба, рок, кинжал, покров, скрывающий девичьи красы, длань, сжимающая скупое подаянье. Зависть предстает у Пушкина как черное, злобное, гнусное, презренное чувство, мучительное для завистника и опасное для жертвы («как рано зависти привлек я взор кровавый»). Впрочем, иногда зависть становилась у поэта не глубокой, а «некоторой» и приобретала светлые оттенки: «На юных ратников завистливо взирали, ловили с жадностью мы брани дальний звук». Подытожим: без малого два столетия назад слово «зависть» и его производные прочно входили в состав как простонародной, так и литературно-книжной лексики, в том числе высокого поэтического жанра. Интересно, какой была предшествующая судьба этого не знающего сословных и жанровых различий слова? Когда и как оно появилось в русском языке?
Интервал:
Закладка: