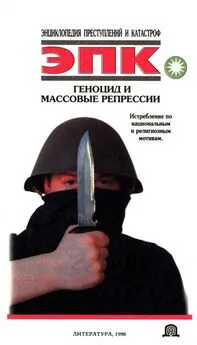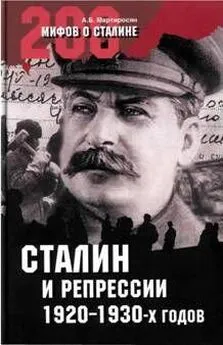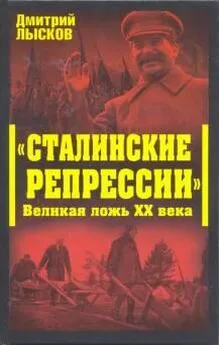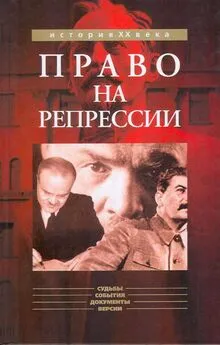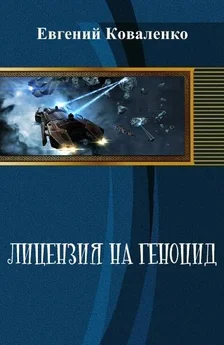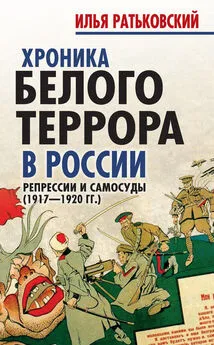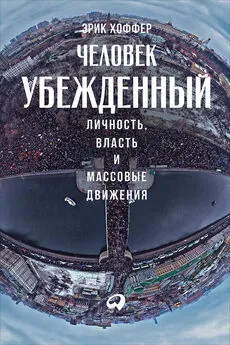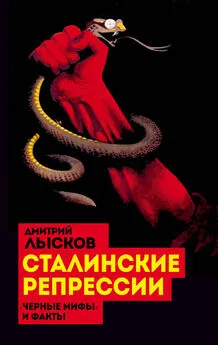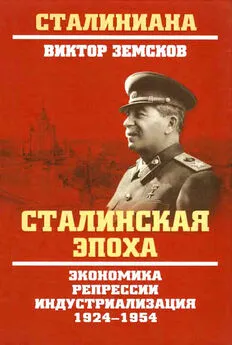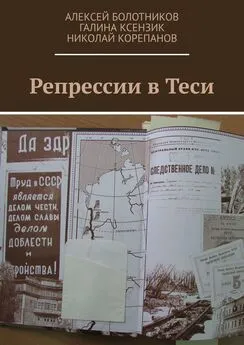Геноцид и массовые репрессии
- Название:Геноцид и массовые репрессии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литература
- Год:1996
- Город:Мн
- ISBN:985-6274-98-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геноцид и массовые репрессии краткое содержание
Геноцид и массовые репрессии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но вот миновало без остатку и поколение людей, крещенных до Никона, и старообрядство, не отрицавшее нужды в священстве, оказалось в страшном для верующих по-церковному людей положении: в его среде совсем не оказывалось церкви, они, значит, не церковь, ибо церковь требует определенных трех чинов священства — епископства, иерейства и дьяконства, а у старообрядцев нет ни одной. Тогда-то и начались в старообрядстве, приемлещем священство, страстные, полные глубокого трагизма поиски истинных архиереев. Религиозная мысль не могла примириться с фактом, что в старообрядстве потухли последние проблески апостольского преемства, и начинает порывисто доказывать и себе и другим, что истинная Христова церковь древляго благочестия не исчезла; что цепь апостольского преемства не может порваться раньше кончины мира; что если прекратилось истинное преемство Руси, то существует же оно в других православных странах. И вот в первых годах XVIII века посланец от старообрядцев пробирается в Царьград — посмотреть, какова вера у греков. Оказалось, что в очень неудовлетворительном, со старообрядческой точки зрения, состоянии. Но религиозная мысль не хотела кончить этим неудачным опытом и стала искать себе поддержки в напряженной религиозной фантазии: есть истинная церковь далеко на востоке, там, где солнце восходит, в беловодье, в Опоньском царстве, на океан-море, на семидесяти островах; был там Марко, инок Топозерского монастыря, и нашел 179 церквей «асирскаго языка» и 40 русских, построенных уезжавшими из Соловецкого монастыря иноками. На поисках Беловодья погибло в сибирских пустынях не один десяток горячих голов, распаленных благочестивой фантазией увидеть всю древлюю красоту церковную.
Но, пока искали Беловодья или архиереев древляго благочестия, общине старообрядцев, признававших священство, нельзя же было оставаться без священников, — и вот старообрядческие общины начинают принимать к себе и переманивать бежавших от строгостей тогдашнего епархиального начальства священников, поставленных в господствующей церкви, воспользовавшись для этого одним церковным правилом, которое разрешало принимать от некоторых еретических церквей священников, не лишая их сана. Но тут получалось вот какое затруднение: никонианскую церковь первые учители старообрядства с самого начала подвели под такую степень еретичества, переходящих из которых по церковным правилам надо было перекрещивать! От таких еретиков принимать священников в их сане правилами не разрешалось. А затем, смущал вопрос — при перекрещивании, после вторичного крещения, сохраняет ли свою силу благодать священства? Перекрещенный и ставший старообрядцем священник остается ли священником? Ответ был ясен: нет, благодать не может сохраниться, потому что у еретиков этого чина, которых принимают перекрещивая, и благодати-то нет, а затем, конечно, новое истинное крещение смывает все грехи с раскаявшегося, а следовательно и неправильное посвящение.
Из этого положения предлагалось два выхода: крестить переходящего в старообрядство никонианского священника в полном облачении, или крестить, не погружая его в воду — предполагалось, что в обоих этих случаях благодать священства не будет смыта водой крещения. Но, конечно, тогда же многие в старообрядчестве почувствовали всю натяжку такого рода измышлений и начали настаивать на необходимости считать никонианство ересью того чина, переход из которой сопровождается только миропомазанием. Но тут опять возникли споры и недоумения. Во-первых, самый вопрос о св. мире: дониконовское исчезло скоро, Феодосий сварил на Ветке новое, но так как он не был архиереем, а по правилам св. миро варит архиерей в сослужении с другими архиереями, то многие отказались признавать сваренное Феодосием миро за истинное. Некоторые, с дьяконом Александром во главе, предложили считать никонианцев еретиками третьего чина, переход из которого сопровождается только проклятием своих прежних заблуждений; но это мнение осталось в меньшинстве, и последователи его в то время не играли сколько-нибудь значительной роли в старообрядстве.
Жизнь круто и определенно ставила старообрядцам задачу — создать у себя всю полноту церковного чина.
Весь XVIII век и уходит у старообрядцев-поповцев на поиски своего архиерея, а пока его нет, они довольствовались перебегающими к ним из православия священниками, перекрещивая или перемазывая их, смотря по тому, какое из этих действий принимающее бегствую-щего архиерея считалось более каноничным.
Старообрядчество, решившее для себя, что оно не может обходиться без священства, сосредоточилось на юге, юго-западе и юго-востоке без священства, а также в центре страны, где население издавна жило церковной жизнью и больше, ближе ощущало в своей жизни церковь. На севере сосредоточилась та часть старообрядчества, которая круче порвала с церковью и стала на ту точку зрения, что теперь нет ни церкви, ни таинств, кроме доступного для совершения мирянам крещения, ни церковной иерархии. На русском севере, в прежних владениях Новгорода Великого, на Поморье, в Сибири население издавна очень нуждалось в правильном церковном строе и правильном выполнении треб и, собственно, никогда не имело ни того ни другого. В безлюдных пустынях русского севера, где от поселка до поселка приходится считать, иногда далеко заходя за сотню, десятки верст дороги, еле пробирающейся сквозь густые лесные дебри и топкие болота, церковь и священник при ней всегда были редкими явлениями.
При редкости священного чина, местное население старалось, по возможности, само, без посредства священников удовлетворять свои духовные нужды. Вместо церквей здесь чаще строили часовни, в которых местные начетчики правили для желающих вечерню, утреню, часы — все те богослужения, которые можно совершать без священника. На севере привыкли молиться без пастыря духовного и потому легко сравнительно примирились с мыслью остаться без священного чина навсегда. Крещение можно совершать мирянам, исповедоваться можно друг другу, приобщаться можно запасными дониконовскими дарами, а когда все эти запасы вышли, некоторые толки безпоповщины стали символизировать св. причастие, вкушая с особыми обрядами «в воспоминание» хлеб и вино или же просто изюм. Обходиться без таинства брака здесь, на севере, привыкли по нужде давно и мало смущались отсутствием венчания, заменив его объявлением в общине и молитвой, читаемой наставником.
Первыми насельниками этой части России, образовавшими здесь сосредоточие старообрядства, были соловецкие «выгонцы», бежавшие из монастыря после взятия его царскими войсками. Они повторили своей жизнью монастырской колонизации XIV–XV вв. Бегая от слуг антихристовых, они забирались всегда в самую непроходимую глушь, куда летом дороги не было, а зимой можно было пробраться только на лыжах. Где-нибудь на берегу пустынной речки или лесного озера отшельник рыл себе землянку и начинал «спасаться». Этому пустыннику, пришедшему в пустыню из самого пыла борьбы с антихристом и воинством его, не сиделось на месте; вкусив прелестей словесной схватки с поборниками новых обрядов, пустынник не может утерпеть, чтобы время от времени не показаться среди окрестного населения и не «поучить» его от Писания, наставляя крепко держаться древляго благочестия. Это подвиги проповеди создавали славу пустыннику, приобретали ему поклонников-христолюбцев, которые помогали ему деньгами, съестным, прятали от погони и даже защищали его оружием против посланных воеводой на взятие пустынника солдат и пушкарей. Около кельи пустынника незаметно вырастало несколько других, где селились желавшие поразмышлять о Господе. Возникало целое общежитие, которому трудно было существовать на доброхотные даяния, и тогда члены его, «нужных ради потреб», начинают жечь лесные участки и на «гарях» сеять рожь. «Жестокое и нужное житие» становится «пристойным и пространным».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: