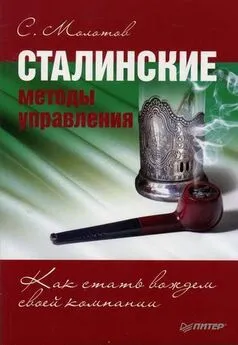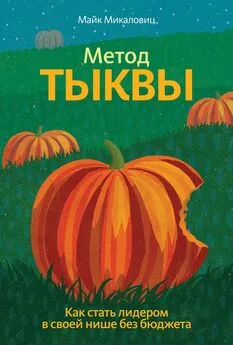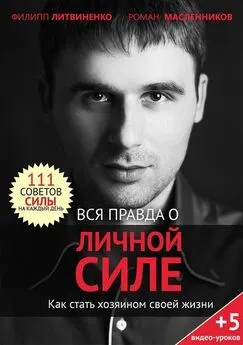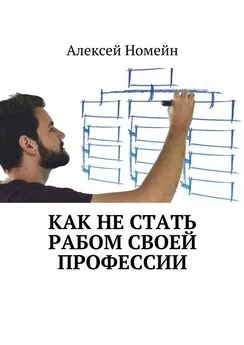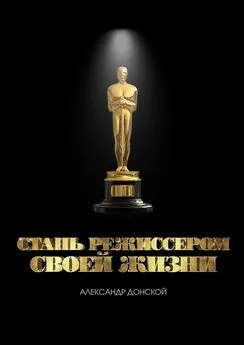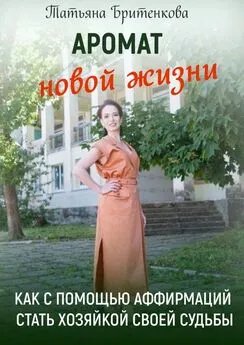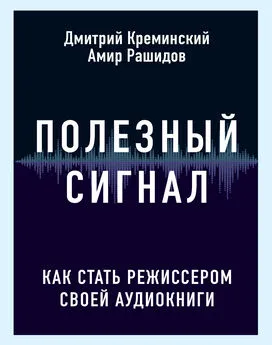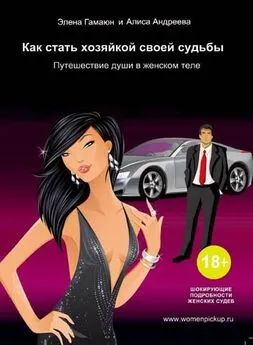Дмитрий Креминский - Полезный сигнал [Как стать режиссером своей аудиокниги] [litres]
- Название:Полезный сигнал [Как стать режиссером своей аудиокниги] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-113329-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Креминский - Полезный сигнал [Как стать режиссером своей аудиокниги] [litres] краткое содержание
«Хороший актёр всегда нуждается в режиссере – человеке, намечающем для актера коридор, по которому следует идти. Рассказчик в аудиокнигах – это ведь роль. Для роли нужна концепция, замысел. Для разработки концепции нужен режиссер. Исполнителям аудиокниг необходимо воспитать в себе внутреннего режиссера», – Дмитрий Креминский.
Эта книга – долгожданное событие для сообщества изготовителей и любителей аудиолитературы. Известный режиссер радиоспектаклей Дмитрий Креминский в диалогах с чтецом Амиром Рашидовым делится своим уникальным опытом режиссерского мастерства при создании аудиокниг.
Без каких знаний нет смысла браться за чтение книг вслух? Почему текст для чтеца – не главное? Почему чтение одного исполнителя мы можем слушать часами, а от другого отключаемся через две минуты? Какими приемами может пользоваться чтец, чтобы увлечь слушателей? Почему даже профессиональные актеры порой терпят фиаско у микрофона? Ответы на эти и другие важные вопросы разбиты по темам и выведены в ключевые тезисы по воспитанию «внутреннего режиссера».
Книга вызовет интерес не только у начинающих энтузиастов-исполнителей, но и у профессиональных артистов, а также слушательской аудитории, которая хочет узнать, как создается качественная аудиолитература.
Полезный сигнал [Как стать режиссером своей аудиокниги] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дыхание – один из трех китов техники речи. Второй и третий – дикция и артикуляция.
Естественно, что дикторы и чтецы отдают должное развитой дикции, но далеко не все понимают значение артикуляции. А ведь порой артикуляция важнее дикции. Дикция – это зубы и язык, артикуляция – губы. И если у тебя губы не умеют работать так же активно – толку от дикции ноль.
Лучше Константина Сергеевича Станиславского я на эту тему все равно не выскажусь, так что ограничусь его цитатами.
«Слово со скомканным началом подобно человеку с расплющенной головой. Слово с недоговоренным концом напоминает мне человека с ампутированными ногами. <���…> Когда у некоторых людей от вялости или небрежности слова слипаются в одну бесформенную массу, я вспоминаю мух, попавших в мед; мне представляется осенняя слякоть и распутица, когда все сливается в тумане. <���…> Аритмия в речи, при которой слово или фраза начинается медленно, а в середине вдруг ускоряется, для того чтоб в конце неожиданно точно шмыгнуть в подворотню, напоминает мне пьяного, а скороговорка – пляску святого Витта. <���…> Плохая речь создает одно недоразумение за другим. Они нагромождаются, затуманивают или совсем заслоняют смысл, суть, даже самую фактуру пьесы. <���…> Как клапаны дешевого инструмента плохой фабрики, мои губы недостаточно плотно сжимаются. Они пропускают воздух, у них плохая пришлифовка. Благодаря этому согласные не получают необходимой четкости и чистоты. <���…> [Необходимо] развить артикуляцию губного аппарата, языка и всех тех частей, которые четко вытачивают и оформляют согласные, <���…> однажды и навсегда покончить с элементарными требованиями дикции и звука. Что же касается тонкостей искусства говорить, помогающих художественно, красиво и точно выявлять неуловимые оттенки чувств и мысли, то их вам предстоит разрабатывать в течение всей жизни».
К. С. Станиславский «Работа актёра над собой».
«В течение всей жизни»! Ну да, никто не обещал, что будет легко.
Кажется, вроде, зачем так глубоко копать? Но ведь на глубине и находится самое важное.
Вот велосипедист – он сел и поехал. Он не думает, что у него при этом работает сразу два-три десятка мышц, вестибулярный аппарат и прочее и прочее. Автоматизм! Так же и мы перед микрофоном должны достичь этого автоматизма в исполнении, чтобы все работало одновременно, как оркестр: дыхание, дикция, артикуляция, интонация, умение держать перспективу через интонационные запятые и двоеточия, темпоритм повествования, постоянно держать в голове характер персонажа и так далее. 99 % усилий – на работу с материалом (творческие задачи!), и лишь 1 % – на контроль за этой работой (задачи технологические!). Вот до такой степени автоматизма желательно дойти.
О голосе автора
Итак, мы проанализировали произведение, разложили все по полочкам. И теперь важный вопрос: а от кого идет авторский текст? Автор – тоже персонаж. Кто-то все-таки присутствует внутри этой истории и каким-то образом транслирует нам всю эту цепь событий. Вот здесь как раз начинается самая активная фаза работы со своим внутренним режиссером.
Для примера возьмем роман, который знают все – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
Первый вопрос. Кто это рассказывает?
Я для ответа на такой вопрос, как правило, заглядываю в конец произведения. Чем все кончается? Всегда надо следить за тем, кто последним исчезает из истории. Чаще всего это и есть авторская подсказка: автор в последнюю очередь расстается с рассказчиком. В предлагаемом нами примере, «Мастер и Маргарита», мы помним, что это Иван Бездомный. В эпилоге романа он уже сотрудник института истории и философии, профессор Иван Николаевич Понырев, который каждый раз после укола успокоительного лекарства видит сон о лунной дороге, по которой уходят Иешуа и Понтий Пилат. Рассказчик в лице Бездомного, который по прошествии времени поведал нам обо всех этих людях, очень органичен.
Впрочем, не будем столь категоричны. Бездомный не единственный возможный рассказчик этой истории. В «московских главах» он, действительно, подходит нам «на все сто!», как он сам любит говорить, но, скажем, в «ершалаимских главах» это вполне может быть и Мастер, хотя первую главу о Понтии Пилате начинает цитировать Воланд. Конечно, взятый нами в качестве примера роман, в котором спрятан еще и второй роман, весьма сложен. Амбивалентность этой истории не позволяет ответить на вопрос о личности рассказчика однозначно. Тем не менее, ясно, что если рассказывать эту историю от лица других персонажей (Коровьева, Бегемота или, скажем, Маргариты), то это будет звучать нелепо. Версия «рассказчик-Бог», тоже имеет место быть: неплохая творческая задача – выявить отношение такого рассказчика к персонажам!
Давайте немного подробнее на ней остановимся. Голос «рассказчика-Бога», надо признать, выгодная для исполнителя позиция. Хотя бы потому, что никто не знает, как Бог выглядит и как повествует. Но к выбору такой роли повествователя надо все-таки относиться, как к метафоре: автор – это бог произведения. Здесь важен принцип божественного всеведения (автор, как демиург произведения, знает заранее «кому сопереживать и в чем?») и принцип взгляда на историю «сверху».
Как понять – какую роль для рассказчика лучше выбрать: «бога текста» или одного из персонажей? Это зависит во‑первых от того, как организован материал, а во‑вторых от творческой задачи, которую вы перед собой, как исполнитель, поставите. В том же «Мастере и Маргарите», как я уже сказал, органичен будет в качестве рассказчика и Иван Бездомный, и условный «бог», то есть тот, который «ВИДИТ ВСЁ».
Такой подход порой пытаются упростить, посчитав «А, ну все понятно, мы просто играем роль автора произведения». Это ошибка. Я, например, не знаю каким был Михаил Афанасьевич Булгаков, и как его играть. Но вот его альтер-эго, воплотившееся в незримой сущности бога, взирающего сверху на историю Мастера и Маргариты, для меня более понятный персонаж. Это кто-то «похожий на Булгакова», лирический герой «Творец».
Словом, у вас, как исполнителя, обязательно должна возникнуть по отношению к «голосу автора» какая-то конкретика. От этого выбора будет зависеть многое – и манера исполнения, и отношение ко всей истории и к ее персонажам, и полнота выявления авторской мысли. Хорошо, конечно, если есть вариант поискать, кто лучше подходит для этой роли.
Мой способ, который я предлагаю вам – посмотреть, кто последним исчезает из повествования. Это не универсальная отмычка, само собой, но ко многим замкам этот ключик подходит.
С произведениями от первого лица все несколько проще: там персонаж рассказчика сразу понятен, есть прямое указание автора. В зависимости от контекста это может быть главный герой, который рассказывает «свежую», только что происшедшую историю, либо это история, рассказанная им спустя годы, многократно осмысленная и прочувствованная. Вот например – «Капитанская дочка». Все понятно: пожилой Петр Гринев рассказывает нам о самом ярком событии своей юности, которое предопределило всю его дальнейшую жизнь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Дмитрий Креминский - Полезный сигнал [Как стать режиссером своей аудиокниги] [litres]](/books/1067781/dmitrij-kreminskij-poleznyj-signal-kak-stat-rezhi.webp)