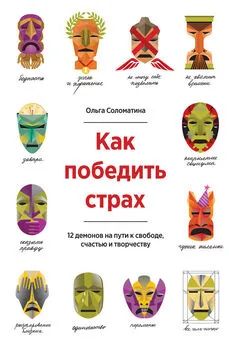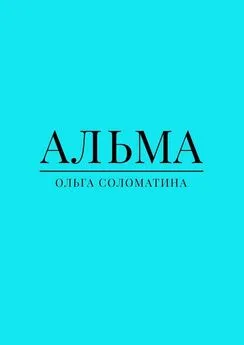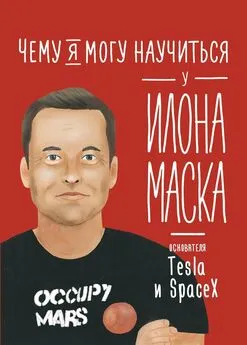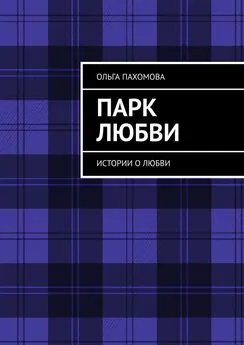Ольга Соломатина - Как писать о любви?
- Название:Как писать о любви?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Альпина
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-6042-3195-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Соломатина - Как писать о любви? краткое содержание
Осторожно! Курс и книга обладают побочным эффектом – одинокие слушатели стремительно и счастливо влюбляются после того, как, следуя инструкциям из книги, допишут собственную историю любви.
Как писать о любви? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Утопленница не нравилась автору. Лев Николаевич окончательно определился с финалом в 1872 году, после самоубийства Анны Пироговой из-за несчастной любви. «Она уехала из дома с узелком в руке, вернулась на ближайшую станцию Ясенки (близ Ясной Поляны), там бросилась на рельсы под товарный поезд», – пишет об этом происшествии в своем дневнике жена писателя. Толстой даже ездил в казармы железной дороги, чтобы расспросить о случившемся и увидеть несчастную.
Вот так жизнь сама помогает писателю докрутить сюжет. И вам она уже что-то подсказывает. Вы внимательно слушаете?
Как появились другие сюжетные линии романа Толстого, мы поговорим в следующей главе, когда будем узнавать героев вашей новеллы. Сейчас только хочу спросить: вы знаете, что Анна Каренина – не главный герой романа? Чем главный герой отличается от всех остальных? Подумайте об этом пока.
Кради, как писатель
Однажды ко мне пришла учиться писать девушка, которая считала все свои личные истории ужасно скучными. Придуманные ею сюжеты ей тоже не нравились, но она много читала и с радостью пересказывала чужие книги. И тогда я подумала: «А почему бы нам не поискать вдохновения в чужих книгах?» Многие писатели начинают с подражаний, открыто в них признаются, но в то же время в журналистике каленым железом выжигают правило: «Не бери ни строчки из чужого текста!» И я зависла.
Стала искать ответ на вопрос «Можно ли черпать вдохновение, а то и сюжет в книгах других авторов?» Оказалось, в литературоведении, как часто случается в гуманитарных науках, однозначного ответа не существует. С одной стороны, все наслышаны о плагиате и понимают, что ни строчки копировать нельзя. С другой – писатели во все времена заимствовали сюжеты друг у друга, а также в творчестве народа, религиозных текстах.
До XVIII века на Западе и гораздо дольше – до XIX столетия – в России использование чужого сюжета было нормальным явлением. Сюжеты Шекспира отчасти взяты из исторических хроник, отчасти – из итальянских новелл. Уильям временами почти дословно цитирует Монтеня без ссылки на автора. Мольер часто повторял по поводу «Плутней Скапена»: «Я беру свое добро повсюду, где нахожу его», – и действовал в соответствии с этим принципом. Шатобриан писал: «Я нашел у авторов, к которым обращался, вполне неизвестные вещи и воспользовался ими в своих целях».
Гете уже в начале XIX столетия и отнюдь не в Российской империи, где еще можно было заимствовать, настаивал на «ничейности» фабул: Шекспир, говорил он Эккерману, брал «целые куски из хроники», «теперешним молодым поэтам следовало бы посоветовать то же самое». Такого мнения придерживался и Гейне. Он утверждал, что писателям стоит «браться за уже обработанные темы», ибо в искусстве все дело в обработке и весь вопрос заключается только в том, «хорошо ли это у меня вышло».
В XIX веке еще не знали об авторском праве, но уже требовали от авторов оригинальности в фабуле. Пушкину приходилось оправдываться по поводу поэмы «Братья-разбойники»: «Я с Жуковским сошелся нечаянно». Вордсворт яростно обвинял Байрона в плагиате. Из страха обвинений в творческом воровстве Доде пришлось дать героине другую профессию, иначе сходство с романом Диккенса было слишком очевидно.
Гончаров с Тургеневым и вовсе однажды шумно поскандалили. Гончаров обвинял Тургенева, что тот «утащил» сюжет из «Обрыва», и ему пришлось в итоге убрать целую главу о предках Райского. Тургенев же, со своей стороны, пожертвовал многими подробностями объяснения Лизы с Марфой Тимофеевной, слишком напоминающими аналогичную сцену объяснения Веры с бабушкой.
Страсти кипели нешуточные.
Порой грань между заимствованием и влиянием провести невероятно сложно. Лев Николаевич Толстой признавался, что, когда он перечел сразу после написания свой «Рассказ юнкера», в глаза ему бросилось «много невольного подражания» рассказам Тургенева из цикла его «Записок охотника». Недолго думая, начинающий автор сделал перед рассказом посвящение Ивану Тургеневу.
Лев Толстой не скрывал: «Многому я учусь у Пушкина: он мой отец, и у него надо учиться». Пушкинская повествовательная манера вдохновила писателя на быстрое знакомство с героями «Анны Карениной»: «(Пушкин) как будто разрешил все мои сомнения…» Отрывок из произведения Александра Сергеевича «Гости съезжались на дачу» сильно понравился Толстому быстрым введением читателей в гущу событий. Этот прием Пушкина увлек Льва Николаевича, и он считал, что его роман получился только «благодаря божественному Пушкину».
В свою очередь, Пушкин подражал Шекспиру. Дописав «Бориса Годунова», поэт признавался: «Не смущаемый никаким светским влиянием – Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов».
Но, для того чтобы учиться у Шекспира, нужно обладать не меньшим талантом и свободой творчества. Вот, например, Гете признавал, что влияние Шекспира чуть не погубило его. Он писал Эккерману: Шекспир «слишком богат и слишком могуч. Человек, продуктивный по натуре, должен читать в год не больше одной его вещи; иначе это приведет его к гибели. Я хорошо поступил, что отделался от него “Гецем фон Берлихингеном” и “Эгмонтом”, и Байрон очень хорошо сделал, что относился к нему без особенного решпекта и шел своей дорогой. Как много отличных немецких авторов погибли, подавленные Шекспиром и Кальдероном!»
Во время южной ссылки Пушкин увлекся творчеством Байрона. «По гордой лире Альбиона он мне знаком, он мне родной!» – восклицает Пушкин. Александр Сергеевич, по его собственному выражению, «бредил» Байроном, заимствуя множество тем, характеров, сюжетных ситуаций, языковых элементов и пр. Достаточно сравнить «Цыган» с «Русланом и Людмилой», чтобы понять, как много Байрон дал Пушкину. Но пройдет всего пять лет, и в 1825 году Пушкин начнет суровую переоценку художественного метода Байрона. Прежде всего Александра Сергеевича разочаруют одноплановость образов Байрона. Он успеет создать много похожих характеров, а потом напишет: «Его (Байрона) герои, упрощая, либо плохие, либо хорошие. В то время как люди менее однозначны и наделены противоположными чувствами».
Что касается заимствований сюжетов, то примеров в разы больше, чем прямых признаний авторов.
В основе «Разбойников» – сюжет Шубарта, который Шиллер насыщает некоторыми новыми образами и драматизирует.
Бальзак пишет, поставив себе цель изобразить «современного Тартюфа».
Сравните образ клячи, которую избивают, из стихотворения Некрасова «О погоде» и лошадь из сна Раскольникова в романе Достоевского «Преступление и наказание».
Гете берет для «Ифигении» античный миф.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
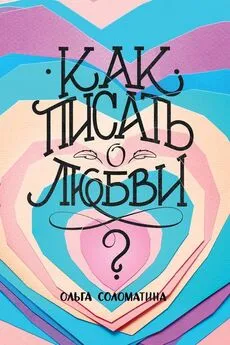

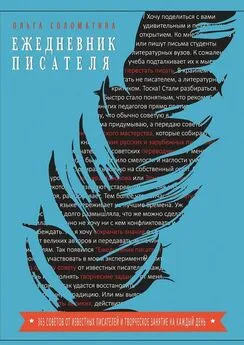
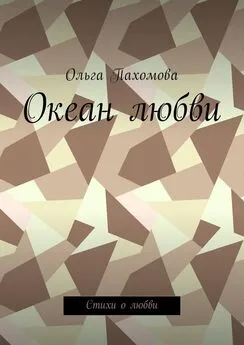
![Ольга Соломатина - Чему я могу научиться у Илона Маска [litres]](/books/1075471/olga-solomatina-chemu-ya-mogu-nauchitsya-u-ilona-mas.webp)