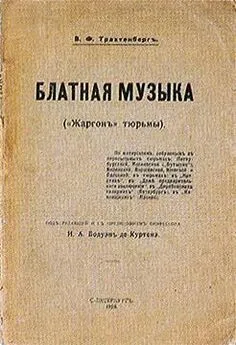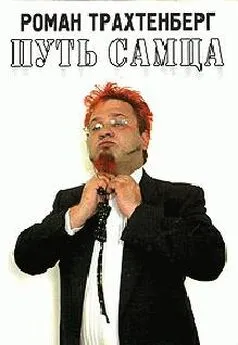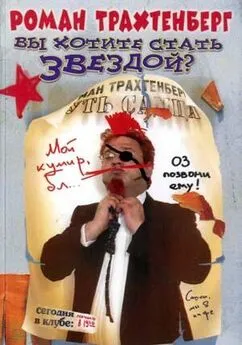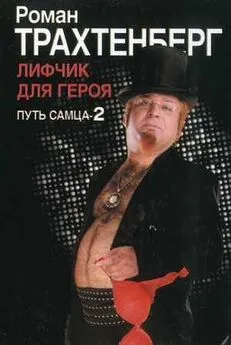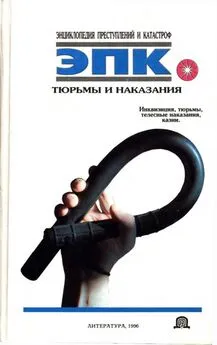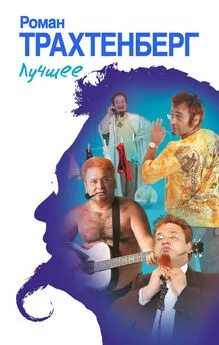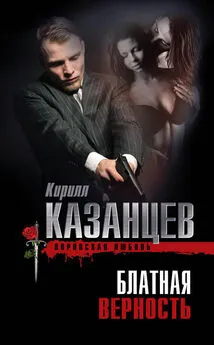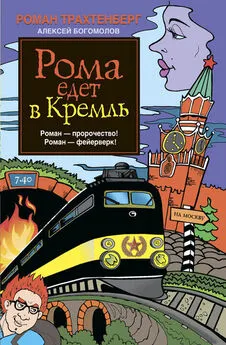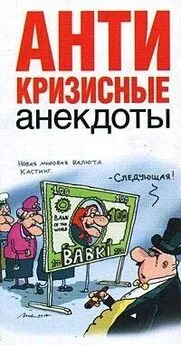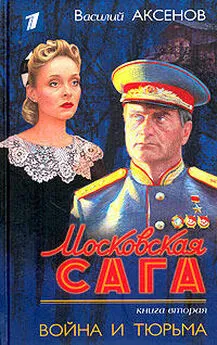Василий Трахтенберг - Блатная музыка. «Жаргонъ» тюрьмы
- Название:Блатная музыка. «Жаргонъ» тюрьмы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1908
- Город:С.-Петербургъ
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Трахтенберг - Блатная музыка. «Жаргонъ» тюрьмы краткое содержание
Блатная музыка. «Жаргонъ» тюрьмы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
88. Паутинурѣзать.
Сорвать часовую цѣпочку.
89. Отправиться омулей ловить.
Потонуть на озерѣ Байкалѣ.
90. Ноги щупать.
Готовиться къ совершенію побѣга изъ каторги.
91. Плыть вдоль каторги.
Отбывать безсрочную каторгу.
92. Пропѣть лахма́нный акаѳистъ.
Простить, скостить какой-нибудь долгъ.
93. Луковка-то — копейка, а сто луковокъ — рубль.
Заключительная фраза очень распространенной въ острожномъ мірѣ присказки (См. «Записки изъ Мертваго Дома» Достоевскаго).
94. Ѣхать на небо тайгою.
Врать безъ конца.
95. Мѣрять стекла.
Выдавливать ихъ, намазывая медомъ или патокою сахарную бумагу.
96. Тащитъ нищаго по́ мосту.
Ныть, пѣть что-либо заунывное.
Приложеніе 2-ое
Острожныя пѣсни
«Несмотря на то, что строгія тюремныя правила, запрещая „всякаго рода рѣзвости, произношеніе проклятій, божбы, укоровъ другъ другу, своевольства, ссоры, брань, разговоры, хохотъ“ и т. п., преслѣдуютъ, между прочимъ, и пѣсни , онѣ все таки не перестаютъ служить свою легкую и веселую службу. Хотя пѣсенниковъ приказано смотрителямъ „отдѣлять отъ другихъ (не поющихъ) въ особое помѣщеніе (карцеръ), опредѣляя самую умѣренную и меньше другихъ пищу, отъ одного до шести дней включительно на хлѣбъ и на воду“, — все таки отъ этихъ красивыхъ на бумагѣ и слабыхъ на дѣлѣ предписаній пѣсенники не замолчали… Пѣсни сбереглись въ тюрьмахъ даже въ томъ самомъ видѣ и формѣ, что мы, не обинуясь, имѣемъ право назвать ихъ собственно-тюремными, какъ исключительно воспѣвающія положеніе человѣка въ той неволѣ, которая называется „каменнымъ мѣшкомъ“, „каменной тюрьмой“».
Такія слова относительно «острожныхъ» пѣсенъ находимъ мы въ цѣнномъ трудѣ С. В. Максимова, «Сибирь и каторга» (С.-Петербургъ. 1871. I. 371–372. Прибавленія. 1. Тюремныя пѣсни. =Изд. 3-е. СПб. 1900, 139–140).
Тюремныхъ, собственно острожныхъ пѣсенъ скопилось такъ много, что можно было бы изъ нихъ составить цѣлые сборники. Въ Россіи эти произведенія народнаго творчества являются полнѣе и законченнѣе, а въ Сибири случается; что одно цѣльное произведеніе дробится на части и каждая часть является самостоятельною, но при этомъ замаскирована до того, что какъ будто сама по себѣ представляетъ самобытное цѣлое. Бываетъ и такъ, что мотивы одной перенесены въ другую, отчего кажется иногда, что извѣстная пѣсня ещо не приняла округленной и законченной формы, а все ещо складывается, ищетъ подходящихъ образовъ, вполнѣ удовлетворительныхъ. Нѣкоторыя пѣсни людская забывчивость урѣзала и обезличила до того, что онѣ кажутся и бѣдными по содержанію и несовершенными по формѣ. Но въ Сибири уцѣлѣли и такія, которыя или забыты въ Россіи, или ушли въ составъ другихъ пѣсенъ, и наоборотъ.
Тюремныя пѣсни дѣлятся на старинныя и новѣйшія. Старинныя почти уже совершенно исчезли, настойчиво вытѣсняясь дѣланными, искуственными. Перевѣсъ борьбы и побѣды — на сторонѣ послѣднихъ.
«Чѣмъ пѣсня старше, древнѣе, тѣмъ она свѣжѣе и образнѣе; чѣмъ ближе къ намъ ея происхожденіе, тѣмъ содержаніе ея скуднѣе и форма не представляетъ возможности желать худшей. Лучшія тюремныя пѣсни выходятъ изъ цикла пѣсенъ разбойничьихъ. Сродство и соотношеніе съ ними на столько же сильно и неразрывно, насколько и самая судьба пѣсеннаго героя тѣсно связана съ „каменной тюрьмой — съ наказаньецомъ“».
«Насколько древни похожденія удалыхъ добрыхъ молодцевъ повольниковъ, ушкуйниковъ, воровъ-разбойничковъ, настолько же стародавни и складныя сказанія объ ихъ похожденіяхъ, которыя, въ свою очередь, отзываются такою же стариною, какъ и первоначальная исторія славной Волги, добытой руками этихъ гулящихъ людей и ими же воспѣтой и прославленной. Жизнь широкая и вольная, преисполненная всякаго рода борьбы и безчисленныхъ тревогъ, вызвала народное творчество въ томъ поэтическомъ родѣ, подобнаго которому нѣтъ уже ни у одного изъ другихъ племенъ, населяющихъ землю» [3] Это утвержденіе я позволяю себѣ считать нѣсколько рискованнымъ; для него нѣтъ въ нашемъ распоряженіи достаточныхъ данныхъ. Б.
.
«Отдѣлъ разбойничьихъ пѣсенъ про удалую жизнь и преслѣдованія — одинъ изъ самыхъ поэтическихъ и свѣжихъ. Тамъ, гдѣ кончаются вольныя похожденія и запѣваетъ пѣсня о неволѣ и возмездіи за удалые, но незаконные походы, начинается отдѣлъ пѣсенъ, принятыхъ въ тюрьмахъ, въ нихъ взлелѣянныхъ, украшенныхъ и облюбованныхъ, — словомъ, отдѣлъ пѣсенъ, принятыхъ въ тюрьмахъ. Оттого онѣ и стали таковыми, что въ тюрьмѣ кончаются послѣдніе вздохи героевъ и сидятъ подпѣвалы и запѣвалы, рядовые пѣсенники-хористы и сами голосистые составители или авторы пѣсенъ» [4] С. Максимовъ. Сибирь и каторга. СПб. 1871.I.372–373. =3-е изд. 1900, 140.
.
Вотъ нѣсколько старинныхъ острожныхъ пѣсенъ [5] Эти пѣсни (за исключеніемъ VI, VII и IX) имѣются тоже въ сочиненіи С. В. Максимова «Сибирь и каторга». Такъ «Милосердная» по 1-му изд. I. 29 = по 3-му стр. 3; «Острожныя» №№ 1–5 по 1-му изд. I. 385–389=по 3-му изд. 144–146, № 8 по 1-му изд. I. 391–392=по 3-му изд. 146, №№ 10–17 по 1-му изд. I. 392–396, 398–401=по 3-му изд. 146–149. В. Ф. Трахтенбергъ приводитъ только тѣ пѣсни, которыя ему самому удалось слышать изъ устъ острожниковъ и заключенныхъ. Поэтому нѣкоторыя пѣсни напечатаны здѣсь съ незначительными измѣненіями противъ текста, сообщаемаго Максимовымъ. Б.
.
[6] См. словарь п. с. «Милосердная»..
Милосердные наши батюшки,
Не забудьте насъ невольниковъ,
Заключонныхъ, — Христа ради!
Пропитайте, наши батюшки,
Пропитайте насъ, несчастныхъ,
Пожалѣйте, наши батюшки,
Пожалѣйте, наши матушки,
Заключонныхъ, Христа ради!
Мы сидимъ-то во неволюшкѣ,
Во неволѣ — въ тюрьмахъ каменныхъ
За рѣшотками желѣзными,
За дверями за дубовыми,
За замками за висячими.
Распростилися мы
Съ отцомъ, съ матерью,
Со всѣмъ родомъ своимъ,
Со всѣмъ племенемъ.
Ещо сколько я, добрый молодецъ, не гуливалъ,
Что не гуливалъ я, добрый молодецъ, не похаживалъ,
Такова я чуда-дива не нахаживалъ,
Какъ нашолъ я чудо-диво въ градѣ Кіевѣ:
Среди торгу-базару, середь площади,
У того было колодечка глубокова,
У того было ключа-то подземельнова,
Что у той было конторушки Румянцевой,
У того было крылечка у перильчата:
Ужъ какъ бьютъ-то добра молодца на правежѣ,
Что на правежѣ его бьютъ,
Что нагова бьютъ, босова и безъ пояса,
Въ однихъ гарусныхъ чулочкахъ-то, безъ чоботовъ
Правятъ съ молодца казну да монастырскую [7] Въ Москвѣ урочище: мѣсто старыхъ казней.
.
Изъ-за горъ-то было горъ, изъ-за высокихъ,
Изъ-за лѣсу-то было лѣсочку, лѣса темнова,
Что не утренняя зорюшка знаменуется,
Что неправедное красно солнышко выкатается:
Выкаталась бы тамъ карета красна золота,
Красна золота карета государева.
Во каретушкѣ сидѣлъ православный царь,
Православный царь Иванъ Васильевичъ:
Случилось ему ѣхать посередь торгу.
Ужъ какъ спрашивалъ надёжа-православный царь
Ужъ какъ спрашивалъ добра молодца на правежѣ
— «Ты скажи-скажи, дѣтина, правду-истину:
Ещо съ кѣмъ ты казну кралъ, съ кѣмъ разбой держалъ?
Если правду ты мнѣ скажешь — я пожалую,
Если ложно ты мнѣ скажешь — я скоро́ сказню.
Я пожалую тя, молодецъ, въ чистомъ полѣ
Что двумя тебя столбами да дубовыми,
Ужъ какъ третьей перекладиною кленовою,
А четвертой тебя петелькой шолковою».
Отвѣчаетъ ему удалый добрый молодецъ:
— «Я скажу тебѣ, надёжа-православный царь,
Я скажу тебѣ всю правду и всю истину,
Что не я-то казну кралъ, не я разбой держалъ!
Ужъ какъ крали-воровали добры молодцы,
Добры молодцы, донскіе казаки.
Случилось мнѣ, молодцу, идти чистымъ полемъ,
Я завидѣлъ — въ чистомъ полѣ сырой дубъ стоитъ,
Сырой дубъ стоитъ въ чистомъ полѣ кряковистый.
Что пришолъ я, добрый молодецъ, къ сыру-дубу,
Что подъ тѣмъ подъ дубомъ подъ кряковистымъ
Что казаки они дѣль дѣлятъ,
Они дѣль дѣлятъ, дуванъ дуванили.
Подошолъ я, добрый молодецъ, къ сыру дубу,
Ужъ какъ бралъ-то я сырой дубъ посередь его,
Я выдергивалъ изъ матушки сырой земли,
Какъ отряхивалъ коренья о сыру землю.
Ужъ какъ тутъ то добры молодцы испугалися:
Со дѣли они, со дувану разбѣжалися:
Одному мнѣ золота казна досталася,
Что не много и не мало — сорокъ тысячей.
Я не въ кладъ-то казну клалъ, животомъ не звалъ,
Ужъ я клалъ тоё казну, во большой-отъ долгъ,
Во большой-отъ домъ, во царевъ кабакъ».
Интервал:
Закладка: