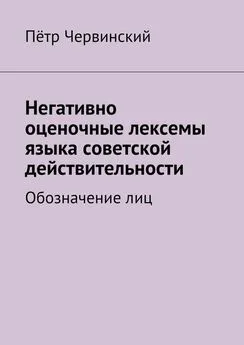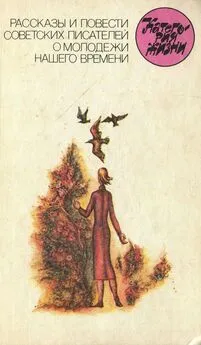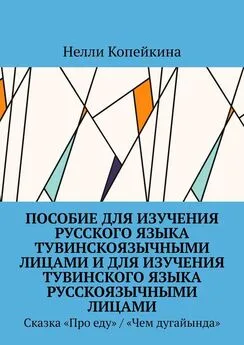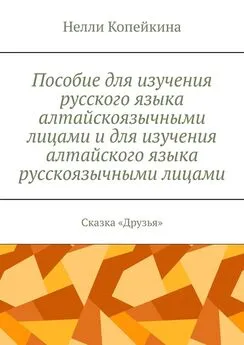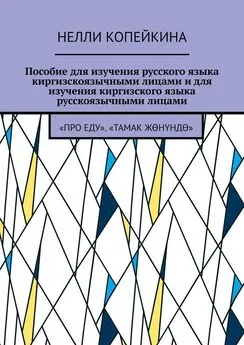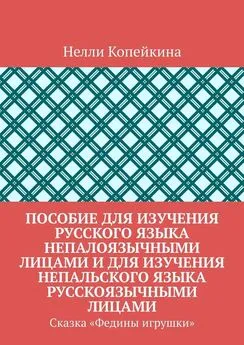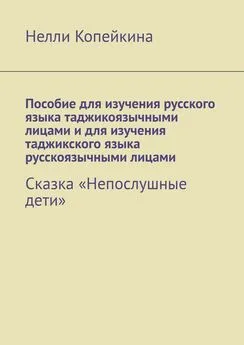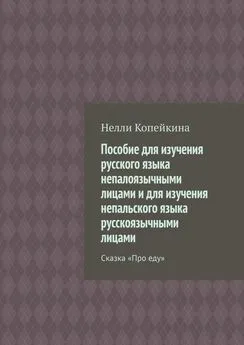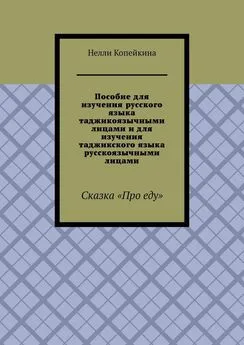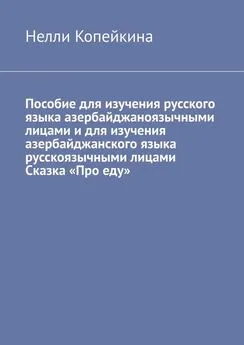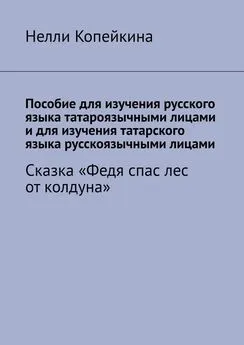Пётр Червинский - Негативно оценочные лексемы языка советской действительности. Обозначение лиц
- Название:Негативно оценочные лексемы языка советской действительности. Обозначение лиц
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Ридеро»
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4474-0919-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пётр Червинский - Негативно оценочные лексемы языка советской действительности. Обозначение лиц краткое содержание
Негативно оценочные лексемы языка советской действительности. Обозначение лиц - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для начала и ясности представления подразделим интересовавший нас материал на группы, позволяющие представить характер возможных соотношений в нем советски отмеченного и нейтрального. Временной показатель, связанный с периодами активности тех или иных негативно-оценочных советизорованных лексем, с различной степенью их идеологической и политической актуализации и с возможным затем вытеснением на периферию или уходом в пассив, на данном этапе анализа во внимание не принимался. Равно как не брался в расчет критерий происхождения – советское новообразование или используемая единица национального языка, с тем чтобы, отвлекаясь от любых дополнительных, хотя бы и важных, критериев, обратиться в самом начале к представлению вероятных различий советскости 4 4 Трудность подобного различения, являющаяся следствием и отражением подвижной неоднозначности анализируемых единиц, требует столь же подвижного и неоднозначного отношения к ним как к представителям выводимых групп, в пределах которых их следовало бы рассматривать как возможные иллюстрации. Группы имеют место и значимы в отношении изучаемого языка, в то время как единицы, им свойственные и для них характерные, могут быть те и другие, в зависимости от приписываемых им значения и коннотации. Поскольку анализируемый материал не описан достаточно ни в том, ни в другом отношении, представления о нем могут быть субъективны.
.
Первую группу составят слова с очевидной и явной советскостью, почти исключительной и резко направленной, характерные по преимуществу для публицистической речи, с оттенками обличения и острого осуждения: аллилуйщик, зажимщик, прижимщик, перестраховщик, перегибщик, авральщик, штурмовщик, срывщик, загибщик, лакировщик, перевертень, трутень, перебежчик, анекдотчик, антисоветчик, валютчик, антиобщественник, саботажник, единоличник, мешочник, взяточник, переносчик (слухов), аппаратчик, растратчик, комитетчик, отказник, подкулачник, пособник, церковник, частник, лабазник .
Вторую группу – слова разговорные, со «вставляемой» советскостью, фигурирующей в них как оттенок коннотативного замещенного дополнения, при этом сила и острота обличения и осуждения имеют в них регулятивный характер, т. е. могут быть более или менее резкими, в зависимости от условий употребления и политического периода: фарцовщик, прогульщик, халтурщик, порубщик, жалобщик, потаковщик, подтасовщик, анонимщик, погромщик, самогонщик, перекупщик, половинщик, волынщик, поклепщик, подговорщик, притворщик, потворщик, алиментщик, комплиментщик, приживальщик, неплательщик, самовольщик, прихвостень, оборотень, фальшивомонетчик, начетчик, попутчик, волокитчик, бюрократ, потатчик, мошенник, законник, низкопоклонник, склочник, сутяжник, законник, кляузник, клеветник, наемник, собственник, шкурник, изменник, матерщинник, карманник, рвач, наушник .
Третью группу – слова с укрытой, неявной советскостью, точнее было бы определить ее термином «смазанной», нередко намеренно двойственной и (ли) затемненной, и таким же характером негативной оценки: глубинщик, гуталинщик, керосинщик, сыщик, понукальщик, дурильщик, добытчик, лудильщик, захребетник, наплевист, локатор, куратор, мирильщик, заводила, подпевала, обирала, вельможа, зверь, вепрь .
И четвертую группу – слова, своего рода притягиваемые, не советские по своему значению и характеру, но, будучи советизированы, способные приобретать специфический смысловой и коннотативный оттенок: морильщик, бурильщик, удильщик, пилильщик, строгальщик, заговорщик, разносчик, хозяин, хозяйчик, затейник, нахлебник, кутила, фигурант, прохиндей, живодер, мандарин, чиновник, сановник, барин, миротворец .
За пределами перечисленных групп, своего рода пятую группу составляют слова, советскому языку не свойственные, не используемые и не коннотатируемые в нем, как правило: бабник, придирщик, наговорщик, субчик, молодчик, господчик, указчик, немчик, турок, фетюк, господинчик, попрыгунчик, дворянчик, купчик, доносчик, висельник, крамольник, кромешник, богохульник, подонок, вертопрах, ловелас, фифа, фигура, фря, пустозвон, фанфарон, прощелыга, бахвал, мазила .
Группы находятся в отношениях корреляции (первая со второй, третья с четвертой) и противоположения первых двух двум последующим. Основу коррелятивности составляют признаки отношения к формируемой советской системе. В первой группе слова называют и характеризуют тех, кто является по отношению к ней потенциальным ее деструктором, негативно, нередко намеренно и сознательно, воздействуя на различные внешние или внутренние ее составляющие. Во второй представлены лица, определяемые и характеризуемые как агенты нежелательного или мешающего нужному направлению образа действия и проявления. Корреляция между первыми и вторыми состоит в характере обращенности проявления – от действователя или носителя признака как объекта оценки на систему-объект (объявляемый строящийся социализм, советский строй) в первой группе и в носителе признака или действователе, в нем самом, по отношению к множеству ему подобных и равных во второй. То есть, тем самым, направленного не прямо к системе и действующего не в ней самой, не внутри ее, а через множество тех, от которых зависит потенциальный успех ее осуществления, реализации. Первая группа, тем самым, предполагает позицию отношения лица к системе как проекцию на субъекта ведущего для советской действительности финитного отношения, если под финитностью понимать категорию направления на систему-цель – объявляемый строящимся социализм и советский строй как объект общественного стремления ( opus finitum ). Вторая группа – позицию отношения лица ко множеству-социуму и внутри него, с проявлением категориального отношения деформации в социальных массивах.
Слова третьей группы определяют и называют лиц «от системы», как ее нежелательные продукты, проводники ее действия и влияния в социальных массивах, подстраивающиеся под нее и к ней приспосабливающиеся, в своем поведении, образе действия, отношении к окружению, ближним, среде. Позицию эту и эту направленность можно определить в отношении «от системы к лицу», в категориях продуцирующего формирования (своего рода измененного состояния) искаженной системой структуры субъекта-лица.
Четвертую группу составляют слова, определяющие и характеризующие лиц, подстраивающих, приспосабливающих свое поведение, образ действия и отношение, но не к системе, а к социальному множеству. Отсюда их не прямое, а только притягиваемое в советский язык положение. Это слова с позицией «от социума, множества к субъекту-лицу» и нейтрализованное, безразличное в своем семантическом представлении, отношение к категориям советского языка. Так, если первую группу составляют деструкторы по отношению к финитной системе, вторую – деформаторы ее социальной базы и почвы-массива, третью – продукты ее «искаженного» социального и психологического воздействия как состояния, то четвертую – стоящие вне ее, как таковым образом ей не свойственные, но и не чуждые в целом, не отрицаемые ею (последнее как определяющий признак можно было бы отнести к группе пятой).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: