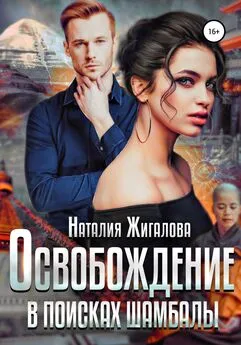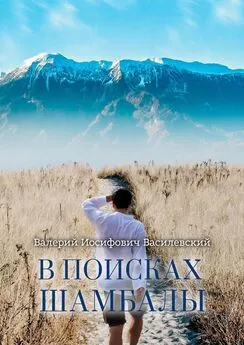Валентин Сидоров - В поисках Шамбалы
- Название:В поисках Шамбалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АиФ-Принт
- Год:2001
- Город:М.
- ISBN:5-93229-086-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Сидоров - В поисках Шамбалы краткое содержание
В книгу вошли повести `На вершинах`, `Семь дней в Гималаях` и `Рукопожатие на расстоянии`. Их объединяет стремление автора осмыслить и как можно более приблизить к жизни и сознанию людей духовное наследие великого русского художника, философа и мыслителя Николая Рериха.
В поисках Шамбалы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не помню, кто сказал, что человеком движет тайна. «В тайне бо живет человек, тайнам же несть конца». Может быть, с особой остротой это ощущаешь в горах. Вот почему название вашей вещи — «Семь дней в Гималаях» — мне представляется правомерным. (Накануне у меня был спор с моими товарищами по поводу названия: они нашли его неудачным. —В. С.) В древнем китайском стихотворении сказано: «В горах побывал всего лишь семь дней, а в мире тысяча лет пронеслась». Там все по-другому, и время течет по-другому. — На мгновение задумавшись, Святослав Николаевич добавил: — Ведь горы принадлежат уже больше Космосу, чем Земле.
В декабре восемьдесят второго года мы принимали участие в работе Джайпурской конференции индийских писателей, пишущих на хинди. Наша делегация была немногочисленной. Она состояла из двух человек: первого секретаря московской писательской организации Ф. Ф. Кузнецова и меня. По этому поводу я даже слегка иронизировал, говоря Феликсу Феодосьевичу, что он возглавляет меня.
Когда пришел мой черед выступать, я обратился к делегатам с традиционным индийским приветствием: «Намаете», что вызвало волну аплодисментов, а затем, не чуя особой беды, прочел свои стихи (благо они были переведены на хинди) о Махатме Ганди.
Реакция оказалась непредвиденной. Вслед за мною, темпераментно жестикулируя, один за другим стали подниматься на трибуну то седобородые аксакалы в белых и голубых тюрбанах, то молодые люди с горящими глазами и взъерошенными прическами. Они читали, а вернее, пели или декламировали нараспев стихи под одобрительные возгласы зала: «Вах! Вах!» Началась стихийная мушейра (так в Индии называют состязание поэтов), в ходе которой меня вновь вытащили на трибуну и заставили читать еще какие-то стихи.
Феликс Феодосьевич укоризненно поглядывал на меня, ибо я невольно сломал чинный ход конференции. Правда, как потом выяснилось, все это было к лучшему. Такая эмоционально-поэтическая пауза была необходима. Она разрядила обстановку и, в общем, пошла на пользу делу.
В перерыве нас обступили. Невозможно передать, с каким энтузиазмом жали нам руки и какое количество автографов нам пришлось раздать. Принимали нас бурно и восторженно. Но, пожалуй, особенно запомнились слова одного собеседника — была какая-то непререкаемо-убежденная интонация в его голосе: «Мы знаем, что нигде в мире нас так не любят, как у вас в России. Но знайте, что и вас нигде так не любят, как у нас в Индии».
Честно говоря, вот эти слова жили в моем сознании и подсознании, когда я готовил свой доклад, а точнее, учитывая его скромные размеры, сообщение для международного симпозиума, организованного делийским университетом, — «Индия и мировая литература». Название я ему дал в точном соответствии с его содержанием: «Сердце сердцу весть подает». Я предлагаю его вниманию читателя на тот случай, если кто-то захочет познакомиться с кратким и беглым (и, конечно, неполным) обзором истории развития индийской темы в нашей литературе.
"Есть в России поговорка: «Сердце сердцу весть подает». Вот в этой поговорке как бы выражено существо отношений, складывающихся в течение веков между народами России и народами Индии.
Глубинная связь между двумя странами, являющимися своеобразными континентами, теряется в толще веков. Светящимся пунктиром она обозначена самой историей. Не может быть случайным тот факт, что русский язык, как никакой другой, близок санскриту, на котором созданы величайшие философские и литературные памятники древности. Санскритские корни в нашем языке видны невооруженным глазом. Однако, как говорил Николай Рерих, «не об этнографии, не о филологии думается, но о чем-то глубочайшем и многозначительном». По его мнению, это «глубочайшее и многозначительное» состоит в том, что «именно русские народы и народы Индии далеки от шовинизма. В этом их сила».
Если в структуре русского языка легко обнаружить общие с индийскими языками корни, то так же легко обнаружить и общие духовные корни в наших устремлениях и наших идеалах. Народы всегда соприкасаются своими вершинами, как бы образуя единую величавую цепь горных хребтов. Вспомним идеалы добра и красоты, которые столь страстно утверждала русская классическая литература — Пушкин, Толстой, Достоевский. Вспомним нравственный максимализм Достоевского, для которого одна-единственная слезинка ребенка могла поколебать и даже разрушить всю гармонию мира, сопоставим это с чеканным афоризмом Ауробиндо Гхоша: «Никто не спасен, пока все не спасены» — или с изречением Рабиндраната Тагора: «Никакая нация не может быть спасена путем отрыва от других. Мы все должны быть спасены или должны погибнуть вместе», — и мы поймем то «глубочайшее и многозначительное», что роднит духовно наши народы. Собственно говоря, во имя тех же идеалов, чтобы все были спасены, чтобы все были накормлены, обуты, одеты и подвигнуты на более высокую ступень духовного развития, и свершалась Великая Октябрьская социалистическая революция.
Словом, взаимное тяготение духовных полюсов России и Индии — характерный признак прошлого и в еще большей мере — сегодняшнего времени.
Обычно, когда говорят о нашем взаимном тяготении, возникает имя Афанасия Никитина, автора знаменитого путевого дневника «Хождение за три моря». Кстати, Афанасию Никитину принадлежит мысль, говорящая о простодушной, но незыблемой вере в чудесные возможности индийского духовного потенциала: «И от всех наших бед уйдем в Индию». Но надобно сказать, что Афанасий Никитин, обретший славу благодаря тому, что рукопись его дошла до наших дней, не был исключением из правила, не был одинокой фигурой на многотрудных путях в индийские ашрамы. Судя по скупым сведениям из старинных русских и индийских источников, таких путников было немало. Просто следы их завалены горными обвалами и занесены песками пустынь.
Несомненно также, что индийская тема у нас началась не с Афанасия Никитина. Свидетельство этому — произведения устного народного творчества, и прежде всего былины о Садко. Знаменитый русский критик-демократ Стасов впервые, пожалуй, обратил должное внимание на индийские мотивы русского фольклора. «Наш новгородский купец Садко есть не что иное, как являющийся в русских формах индийский царь Яду, — утверждал он. — Наш царь морской или царь Водяник — это царь Нагов, царь Змеев, Ракшаза индийских и тибетских легенд». К этому перечню Николай Рерих добавлял языческого Леля, который, по его мнению, являлся своеобразной трансформацией образа бога Кришны, играющего на флейте. Можно сказать, что индийская тема началась у нас задолго до того, как образовались современный язык, письменность и литература. Она началась тогда, когда началась Русь, которая впоследствии выросла и превратилась в государство по имени Россия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
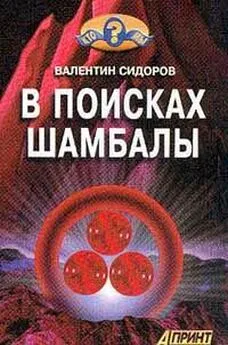

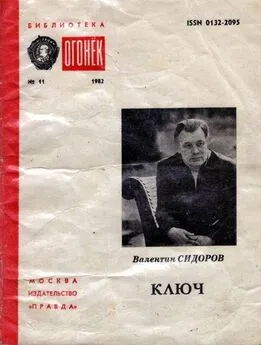
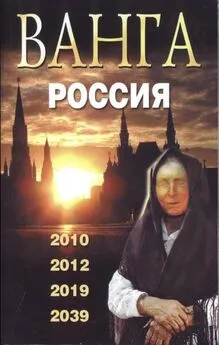
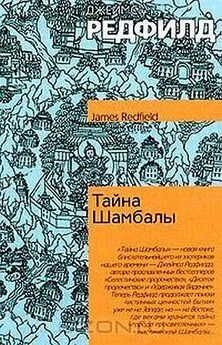
![Валентин Сидоров - Семь дней в Гималаях [документальная повесть]](/books/1067399/valentin-sidorov-sem-dnej-v-gimalayah-dokumental.webp)