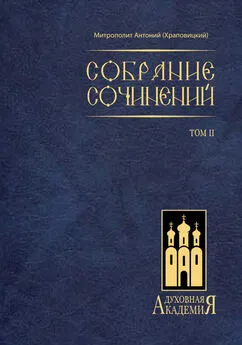Антоний Храповицкий - Собрание сочинений. Том I
- Название:Собрание сочинений. Том I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ДАРЪ
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-485-00112-4, 978-5-485-00113-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антоний Храповицкий - Собрание сочинений. Том I краткое содержание
Собрание сочинений. Том I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
О правилах тихония и их значении для современной экзегетики 126
Автор «Книги о семи правилах» 127донатиский епископ Тихоний жил в IV веке и умер между 390-м и 400-м годами. Несмотря на его принадлежность к расколу, Церковь долгое время пользовалась его герменевтическими правилами как одним из наилучших руководств к толкованию слова Божия. Причиною тому было отчасти достоинство самых правил и малочисленность отеческих трудов по методике толкования, но, конечно, главным виновником их распространения был другой уважаемый во всей западной половине христианского мира учитель Церкви б лаж. Августин. Последний в своей «Христианской науке» не только отзывался о Тихоний как о муже даровитом, хотя и донатисте, но отводил не малое количество строк изложению каждого из семи правил нашего автора.
Их одобряет и Кассиодор, а Исидор Севильский составил на основании их же свои «Sententiarum libri très» («Сентенции в трех книгах» (лат.) – Прим. ред.). Тихоний затем простирал свое руководственное влияние на обильного древнего латинского толкователя, ученика б лаж. Августина, епископа Примасия, постоянно пользовавшегося его толковательным принципом de specie et génère (о виде и роде (лат.). – Прим. ред.); следы подобного влияния замечаются и на позднейших церковных писателях, особенно на латинском Западе, где «Правила» нашего автора усердно изучались и в эпоху средних веков. Кроме этого сочинения Тихоний писал полемические и апологетические письма, а также толкования на Апокалипсис, впрочем, до нас не дошедшие. Однако и то немногое, что сохранилось от нашего автора, достойно самого тщательного внимания современников.
Действительно, кому не любопытно дознать существенные черты святоотеческого толкования Библии? Конечно, в нем именно, а не в чем другом возможно отыскать и ключ к богословствованию, всегда привязанному к Святому Писанию. Призывы к усвоению отеческого метода раздаются у нас постоянно не только со стороны писателей духовных, но и светских. На Западе редкий даже протестантский теолог позволяет себе оставлять без внимания отеческие мнения по разбираемому богословскому вопросу; а при толковании Библии на всяком шагу приводятся отеческие изречения. Тем не менее ни на Западе, ни у нас богословская наука не может похвалиться родственностью метода и результатов с творениями отцов; особенно же их толковательные труды остаются для наших умов не только неудобоносимыми бременами, но нередко и вовсе непостижимыми со стороны своего метода. Все, что мы умеем о них сказать, это чисто отрицательного характера замечание, будто отцы считали себя вправе извлекать смысл библейских изречений «вне контекста». Между тем всякий видит, что, с одной стороны, прием отеческих толкований совершенно не подобен современному, а с другой стороны, толкования отцов носят на себе характер известного единства, и как бы мы ни распространялись о разности двух экзегетических школ, александрийской и антиохийской, но все же между представителями той и другой, например Златоустом и Оригеном или Феодоритом и Кириллом, несравненно более внутреннего родства со стороны метода и результатов, нежели между любым из них и толкователями, нам современными. Какими же основоположениями руководились отцы Церкви при толковании слова Божия? Вот вопрос, который может быть назван основным по своей важности для разрешения задач современного богословия и роковым по трудности своего разрешения. Трудность эта заключается главным образом в том обстоятельстве, что относительное единообразие отеческой экзегетики не было плодом сознательного усвоения тех или других точно выраженных правил, но естественным выражением единства христианского духа, их проникавшего, или, говоря по-современному, их непосредственной конгениальности с духом библейским. Пока стадо Христово жило дружной семьей, все хорошо понимали друг друга с двух слов, и потому толкователи Библии почти не считали нужным показывать, по каким основаниям они извлекают тот или другой смысл из Св. Писания, очевидно, предполагая, что дело само за себя говорит. Вот почему так мало у нас сочинений отеческого периода по методике толкования или по герменевтике. Но и те, которые имеются, не составляют целой гносеологической системы; их авторы тоже проникнуты духом непосредственного усвоения библейского смысла, и лишь некоторые, по преимуществу затруднительные места священных книг побуждали этих авторов высказывать или общие герменевтические соображения, или составлять специальные правила для толкования отдельных видов недоразумений. Такого рода герменевтические рассуждения встречаем мы в четвертой книге Оригена «О началах», затем они рассеяны в творениях свт. Иоанна Златоуста, Илария Поатьерского (особенно в его сочинении о Троице) и блж. Августина в его «Христианской науке». Герменевтическими сочинениями в строгом смысле, кроме «Книги правил», могут быть названы только три до первого разделения, а именно: Евхерия Лионского («Liber formularum spiritualis intelligentiae» 128), Адриана, писателя конца 5-го века («Εισαγωγή εις τας θείας γραφάς» 129) и 6-го старшего современника, Юнилия Африканского («De partibus divinae legis» 130). Сочинение Тихония отличается наибольшею между всеми названными полнотою и систематичностью. Не обладая ясностью изложения, ни тем менее художественностью отделки и многократно повторяясь, Тихоний был, однако, человеком по преимуществу формально рассудочного направления, а потому его рассуждения наиболее доступны сынам XIX века и могут пролить свет не только на те части Св. Писания, коих прямо касаются, но и приблизить наш ум к усвоению некоторых более общих приемов и основоположений древней общецерковной экзегетики, столь авторитетной для православного богослова и для всякого христианина вообще. Читателю «Правил» легко можно заметить, что они приноровлены к кажущимся в Библии противоречиям, т. е. к тем случаям, когда непосредственное усвоение излагаемой в священных книгах мысли не дается читателю. Подобный же случайный характер имеют и все почти герменевтические замечания прочих древних писателей.
В Библии иногда, по-видимому, одному и тому же предмету приписываются противоположные или, во всяком случае, не подходящие к нему признаки. Очевидно, что во всяком случае слово, обозначающее предмет, на самом деле относится не к этому предмету, но к другому, с ним сродному, очевидно, что перед нами оборот метонимический, метафорический, или pars pro toto (часть вместо целого (лат.). – Прим. ред.) или ему подобный. Такие-то явления в библейской речи следует толковать при помощи первого, или второго, или четвертого, или двух последних правил Тихония: все они вращаются около указанного вида библейской речи, различаясь между собою только по предмету. Так, если Св. Писание говорит слитно о Христе и о Церкви и приписывает признаки последней ее Основателю, то подобная речь не должна вести нас к арианиству или докетизму, но легко приводится в ясность посредством первого правила: «De Domino et corpora Ejus» [«О Господе и Теле Его»]. Сам Господь, уподобив Себя лозе, а христиан ветвям, говорил далее в первом лице уже не о Себе Самом, но о Церкви, из Него произрастающей: Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает (Ин. 15, 2). Подобным же образом и апостол Павел в известных словах: Так и Христос (1 Кор. 12, 12), – конечно, говорит не о личности Искупителя, но об Его теле – о Церкви. На основании этих двух и других мест Тихоний устанавливает вполне научное экзегетическое правило, что если о Христе говорится в Писании нечто, несогласуемое с Его божественностью и святостью, то надо разуметь не Его личность отдельно от Церкви, но именно общество Его последователей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: