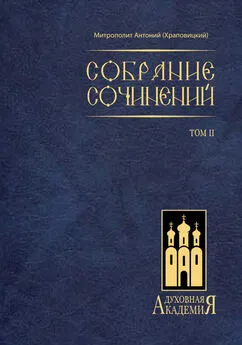Антоний Храповицкий - Собрание сочинений. Том I
- Название:Собрание сочинений. Том I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ДАРЪ
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-485-00112-4, 978-5-485-00113-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антоний Храповицкий - Собрание сочинений. Том I краткое содержание
Собрание сочинений. Том I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наш автор стоит в строгом согласии с церковными авторитетами во всех проводимых главнейших толкованиях. Таково его объяснение пророчеств о блаженной участи будущего Израиля, которое он вместе с апостолами Петром и Павлом и отцами Церкви относит к христианам. Те же отцы, как и Тихоний, относят предсказание о царе вавилонском и о горе Сеире к диаволу и его царству; через одинаковые с Тихонием изречения из Песни Песней объясняют они, например, свт. Григорий Богослов, двойственный характер христианского общества и т. д. Можно смело утверждать, что Тихоний для приложения своих правил пользовался примерами церковного, отеческого толкования: его заслуга заключается в умении отыскать и выразить несколько весьма серьезных методологических принципов такого толкования. Со своей стороны мы постарались указать ту внутреннюю связь, которая объединяет самые принципы, и выяснить мысль каждого из них применительно к понятиям современным. Последнее существенно необходимо, потому что по отдаленности эпохи и склада жизни отеческое мышление отстоит от нашего малым меньше, чем библейское. Лучшие отцы только на 300 лет отдалялись от новозаветных священных писателей, а от нас они отстоят на 1500 лет. Итак, разность равняется 12 векам. Если же принять во внимание уклад религиозной мысли и жизни библейской, отеческой и современной, то разность эту, конечно, следует утроить. Вот почему по нынешним временам отеческие толкователи Св. Писания в свою очередь должны быть истолковываемы, чтобы современники могли с пользою усваивать не слова их только, но и мысли.
Теперь спрашивается, какое руководственное значение могут иметь экзегетические принципы, извлеченные из «Книги о семи правилах», для библейской науки в ее современном состоянии у нас и на Западе?
Если взять самое общее отличительное свойство святоотеческой герменевтики и экзегетики, то придется определить его в том смысле, что здесь предметы, лица и идеи берутся не столько в их внешнем, метафизическом или историческом определении, сколько в определении динамическом, нравственном. Первая сторона, конечно, остается во всей силе, но мысль толкователей обращается именно ко второй и над ней-то оперирует. Жертва Исаака – прообраз Креста по отцам (см. толкование свт. Иоанна Златоуста на Бытие), но этот прообраз не имеет никакой вероятности, если под Крестом разуметь его внешнее очертание как перекладин, а не идею искупительных страданий Послушливого даже до смерти. Те же отцы относят слова окропишь меня иссопом (Пс. 50, 9) и прочее к таинству Крещения. Это было бы натяжкой, если под Крещением разуметь только погружение, и, конечно, латиняне не могут опираться на это изречение в пользу обливания. Но мысль отцов сохраняет всю силу, если в Крещении разуметь туне 131](даром. – Прим. ред.) даруемую нам благодать отпущения и духовного рождения, ибо контекст 50-го псалма со всею ясностью говорит о ней. Грешник долго не хотел себя считать виноватым в падениях своей греховной природы и даже готов был роптать на нее (сравни с 38-м псалмом), но вот он исповедует свою покорность (беззаконие мое я сознаю (Пс. 50, 5)), свою виновность именно перед Богом в содеянном зле (Тебе Одному я согрешил (Пс. 50, 6)), и отсюда – справедливость божественного суда, а свою безответность (так что Ты будешь праведен в приговорах Твоих и победишь, когда Ты будешь судить (Пс. 50, 6)). Вместе с тем молящийся исповедует свое нравственное бессилие, ибо он зачат в беззаконии и рожден во грехах. Кажется, на его долю осталось одно безнадежное отчаяние, но Бог открыл ему нечто неизвестное и тайное (Пс. 50, 8), и вот он с дерзновением умоляет Его о совершенно новом действии над его умершею в грехе душою: Окропишь меня иссопом, и я очищусь, омоешь меня, и я сделаюсь белее снега (Пс. 50, 9). Не то ли дает благодать Крещения умирающему в беззакониях роду человеческому? Возьмем ли мы различные эпитеты, определяющие в Библии существо Божие или Божией благодати: огнь поядающий, свет, путь, жизнь или воду, утоляющую с неба, – все эти подобия имеют значение лишь для того читателя, кто определит воздействие всех этих предметов природы на наше сознание и сравнит с воздействиями Божиими на душу человеческую.
Пожелаем ли мы понять спасительное значение веры во Христа и примирить его с теми словами Библии, по которым вера не может спасти человека (см. Иак. 2,14), хотя бы она соединялась с силой чудотворения (см. Мф. 7,22) и даже отдания своего тела на сожжение (см. 1 Кор. 13, 3); и эти кажущиеся противоречия легко разрешатся, если мы под Христом, как предметом спасительной веры будем разуметь не только Его догматические или метафизические свойства и историческое положение, но Основателя новой жизни, поправшего силу князя мира сего (см. Ин. 12,31), т. е. все эти себялюбивые и горделивые начала жизни, на которых мы утверждаемся и с точки зрения которых Христос Распятый есть соблазн и безумие. Итак, вера во Христа как Начальника новой жизни, нового царства сама собою предполагает внутреннюю победу над миром, эта вера сверх надежды (Рим. 4,18) есть обнаружение смерти миру или, что то же, начало новой вечной жизни, как ее и назвал Христос Спаситель (см. Ин. 17,3). Посему и апостол Павел всех праведников, хотя и не знавших Христа по имени, но осудивших и отщетивших мир во имя лучшей жизни, ожидаемой по внушению сердца, признавал, конечно, в относительном, а не в полном смысле, верующими во Христа и спасшимися этой верой (см. Евр. 11, 26; 12,3).
Итак, все наиболее затруднительные для истолкования места разъясняют с принятием указанного общего принципа, развитого в правилах Тихония: пророчества, прообразы, метафорические эпитеты или определения и, наконец, кажущиеся при догматической систематизации библейского учения противоречия.
Обратимся теперь к современной научной экзегетике. Не будем повторять нередко раздающихся ламентаций по поводу ее бессодержательности, неестественного педантизма, неспособности вникнуть в настоящий смысл божественных глаголов и вытекающей отсюда необходимости для пополнения страниц выдумывать разные исторические и археологические гипотезы, не имеющие никакого отношения к делу толкования. Красноречивым доказательством печального состояния современной библейской науки может служить известный отзыв проф. Богородского об одном вновь вышедшем компактном труде по библейской истории, составленном по самым ученым образцам Запада: почтенный рецензент совершенно справедливо говорит, что в этой книге есть речь обо всем, только не о библейской истории. Но если мы всмотримся в те черты современной библейской науки, которые придают ей такой жалкий характер, то легко убедимся, что все они появились вследствие потери основного экзегетического правила отцов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: