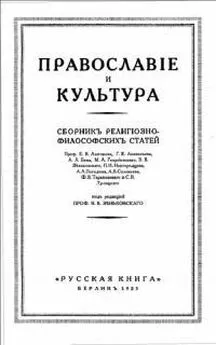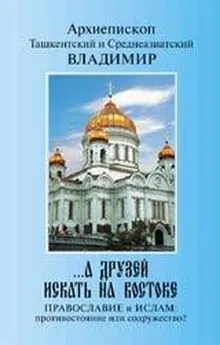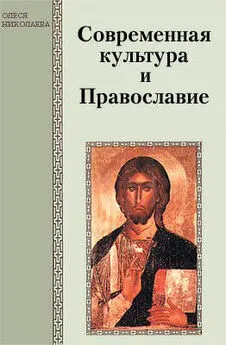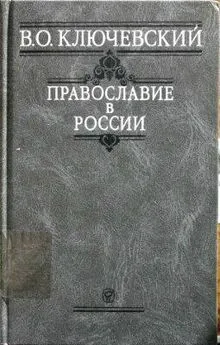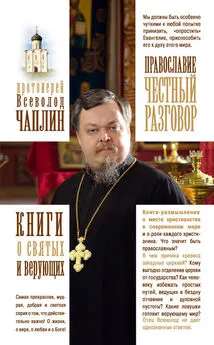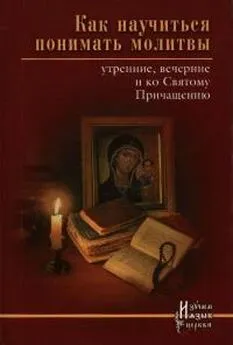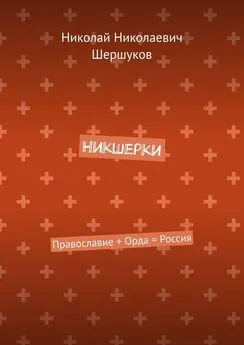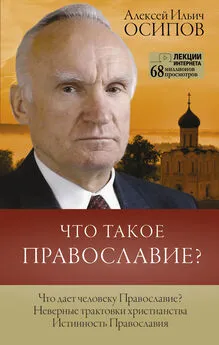Трушова - Православие и Культура
- Название:Православие и Культура
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Русская книга»
- Год:1923
- Город:Берлин
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Трушова - Православие и Культура краткое содержание
Православие и Культура - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Противъ этихъ упрековъ необходимо замѣтить, что здѣсь естественная неполнота земного дѣланія православной церкви принимается за принципіальное пренебреженіе къ земнымъ дѣламъ и что этой неполнотѣ противопоставляется не совершенство Царства Божія, а лишь западный церковный идеалъ. Соловьевъ такъ и пишетъ — совершенно въ духѣ католицизма: «церковь, или Царство Божіе». Но, какъ прекрасно говоритъ болѣе поздній истолкователь судебъ церкви Карташевъ, «если–бы Царство Божіе было тождественно съ Церковью, то по завѣту Своего Учителя Церковь не молилась бы непрестанно: «Да пріидетъ Царствіе Твое!» Значитъ, оно не пришло съ приходомъ Церкви. «Когда придетъ совершенно, тогда то, что отчасти, упразднится.» Молясь о пришествіи Царства, Церковь сама устремляется къ своему эсхатологическому завершенію, сама томится желаніемъ выявить свою полноту, исполниться до конца, когда настанетъ Царство Христово на землѣ. Можно думать, что она отдастъ тогда Домовладыкѣ ключи Царствія, которому «не будетъ конца». Символъ говорить это о Царствѣ Христовомъ, а не «о Церкви». Никогда православная церковь не отрицала задачи своего «совершенія въ человѣчествѣ»; она только отрицала западные пути къ осуществленію этой задачи и различала съ одной стороны эсхатологическую идею полноты совершенства, возможную лишь для Царства Христова, для чудеснаго перерожденія нашей земли въ новую землю, а съ другой стороны историческія ступени относительнаго совершенія, доступныя видимой земной организаціи Церкви. Влад. Соловьевъ, который въ извѣстный періодъ своей жизни склонялся къ западнымъ идеямъ, всецѣло становится на почву католическаго пониманія теократіи и говоритъ поэтому о возможности «всемірной организаціи истинной жизни», осуществляемой силою «духовной власти Церкви». Православное сознаніе отвергаетъ эти притязанія земной, хотя бы и духовной власти, и не вѣритъ въ правильность тѣхъ путей, которыми шелъ Западъ. Здѣсь то и важно въ полной мѣрѣ оцѣнить то коренное убѣжденіе православной церкви, что высшей опорой церковной жизни является не власть церкви, не организація и дисциплина, а благодатная сила взаимной любви и помощь Божія. На этомъ и церковь держится, и вселенская истина утверждается, согласно прекрасному литургическому возгласу: «возлюбимъ другъ друга, да единомысліемъ исповѣмы». Какъ я уже сказалъ выше, это есть по преимуществу религіозно мистическое пониманіе христіанства. Католицизмъ и протестантизмъ, это — западныя европейскія рѣшенія религіозной задачи, въ нихъ преобладаетъ элементъ человѣческій, гуманистическій, православіе есть, напротивъ, восточное, азіатское рѣшеніе этой задачи, и потому оно ближе къ первоначальному духу христіанства, ближе къ глубинѣ религіозныхъ сокровищъ Востока. И его представленіе о церкви, и его ученіе о любви, и его мысли о путяхъ къ Богу обвѣяны этимъ основнымъ религіозно–мистическимъ ощущеніемъ, что въ истинной церкви, въ истинной любви, въ истинной жизни незримо присутствуетъ Богъ, благодать Божія, благодать Христова, что здѣсь корень всего и что оторванные отъ этого корня всѣ человѣческія мысли и дѣла становятся безсильными и безплодными.
Отъ этого такъ чужды православному сознанію и понятіе внѣшняго авторитета, не усвояемаго свободой, и представленіе о свободѣ, не освѣщаемой «свѣтомъ, съ неба сходящимъ», изъ однихъ человѣческихъ силъ и стремленій созидаемой. Православное ученіе есть ученіе о силѣ взаимной любви во Христѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ это есть и ученіе о свободѣ во Христѣ: одно связано съ другимъ, и одно безъ другого немыслимо.
Отсюда вытекаютъ всѣ основныя свойства русскаго благочестія и Богопочитанія, всѣ особенности религіозной психологіи православной вѣрующей души. Не притязая на то, что я перечислю всѣ эти свойства и особенности полностью, я укажу лишь тѣ, которыя представляются мнѣ самыми главными. Онѣ слѣдующія: созерцательность, смиреніе, душевная простота, радость о Господѣ, потребность внѣшняго выраженія религіознаго чувства, чаяніе Царства Божія. Я хочу характеризовать теперь каждое изъ этихъ свойствъ въ отдѣльности.
1. Созерцательность означаетъ такую обращенность вѣрующей души къ Богу, при которой главные помыслы, стремленія и упованія сосредоточиваются на Божественномъ и небесномъ; человѣчеокое, земное тутъ представляется второстепеннымъ и въ то же время несовершеннымъ и непрочнымъ. Отсюда и отсутствіе настоящаго вниманія къ мірскимъ дѣламъ и практическимъ задачамъ. На западный взглядъ въ этомъ слѣдуетъ видѣть нѣчто неправильное и недолжное. На самомъ дѣлѣ это есть лишь подлинное выраженіе того религіознаго сознанія, которое принесено намъ съ Востока, откуда мы получили нашу религію. И на Западѣ, и у насъ иногда видятъ несчастье Россіи въ томъ, что у насъ не было реформаціи, что у насъ не произошло того обмірщенія религіи, того превращенія христіанской морали въ методику и дисциплину ежедневной жизни, которое совершилось у западныхъ народовъ. Въ дѣйствительности, отъ православія не можетъ быть перехода къ реформаціи, ибо православіе по существу своему созерцательно, аскетично. Оно не только не исключаетъ, но и требуетъ вліянія религіи на жизнь и по существу всегда и оказывало это вліяніе, но духу его совершенно противорѣчивъ то превращеніе религіи въ мораль, а морали въ методику и дисциплину ежедневной жизни, къ которому естественно приводитъ реформація. Реформація могла родиться въ нѣдрахъ католицизма, ибо и католицизмъ уже представляетъ собою обмірщенье религіи, въ реформаціи дѣлается лишь дальнѣйшій и притомъ рѣшительный шагъ по пути этого обмірщенія, въ концѣ концовъ совершенно отрывающій жизнь и мораль оть религіи. Православіе, напротивъ, есть сохраненіе чистаго существа религіи, обращающей вѣрующее сознаніе къ Богу, а въ мірѣ иномъ, высшемъ, горнемъ указующей истинное средоточіе человѣческихъ мыслей и дѣлъ. Вліяніе на жизнь, на культуру, на государство, на быть осуществляется въ православіи иными путями, чѣмъ въ западныхъ исповѣданіяхъ: опредѣляющими силами являются тутъ не авторитетъ, не дисциплина, не чувство долга, стоящее внѣ религіи и переживающее ее, а признаніе заповѣдей Божіихъ, заповѣдей единенія и любви и страхъ Божій, страхъ грѣха и проклятія. Жизнь опредѣляется тутъ именно религіей, а не моралью, такъ что безъ религіи и морали не остается, и когда православный человѣкъ отпадаетъ отъ религіи, онъ можетъ склониться къ худшей безднѣ паденія. Но это именно и свидѣтельствуетъ, въ какой мѣрѣ онъ не можетъ жить безъ религіи и какъ все въ православіи держится религіей.
Когда, подобно Соловьеву, говорятъ о «Востокѣ, православномъ въ богословіи и неправославномъ въ жизни», то тутъ упускаютъ изъ вида, что Для Востока «православіе въ жизни» осуществляется ииыми путями и измѣряется иными мѣрами, чѣмъ для Запада: не степенью внѣшняго практическаго благоустройства, а силою ощущаемой связи жизни съ ея божественными истоками. Что видимъ мы на Занадѣ, въ качествѣ послѣдовательнаго развитія принципа реформаціи? По яркой характеристикѣ Константина Леонтьева, здѣсь «вмѣсто христіанскихъ загробныхъ вѣрованій и аскетизма, явился земной, гуманный утилитаризмъ; вмѣсто мысли о любви къ Богу, о спасеніи души, о соединеніи съ Христомъ, забота о всеобщемъ практическомъ благѣ. Христіанство же настоящее представляется уже не божественнымъ, въ одно и то же время и отраднымъ, и страшнымъ ученіемъ, а дѣтскимъ лепетомъ, аллегоріей, моральной басней, дѣльное истолкованіе которой есть экономическій и моральный утилитаризмъ.» Вотъ то обмірщенье христіанства, къ которому привела реформація, и съ точки зрѣнія православія итти въ этомъ направленіи значитъ не исправлять односторонность и недостаточность православнаго сознанія, а выступать изъ области религіи въ область автономной безрелигіозной морали. Это двѣ различныхъ плоскости, между которыми нѣтъ перехода.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: