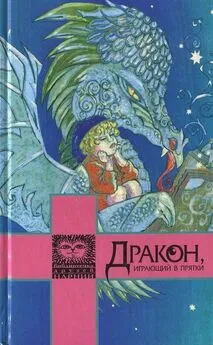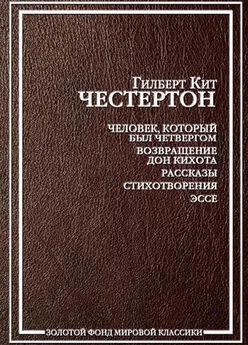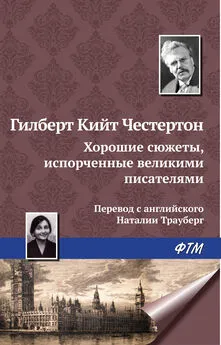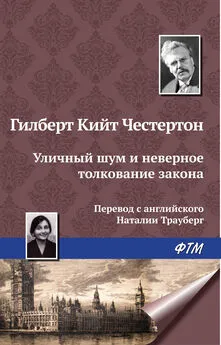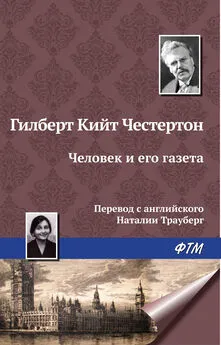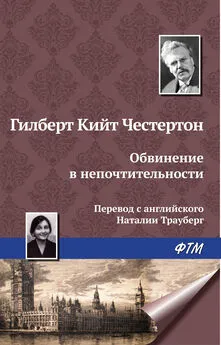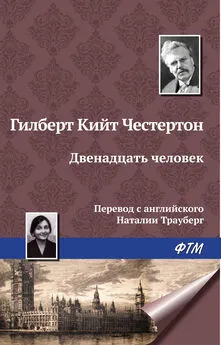Гилберт Кийт Честертон - Писатель в газете
- Название:Писатель в газете
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Прогресс»
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гилберт Кийт Честертон - Писатель в газете краткое содержание
Читателям хорошо известен английский писатель Гилберт Кит Честертон (1874— 1936), автор детективных рассказов и многих романов.
Цель сборника — познакомить читателей с лучшими образцами публицистики Честертона. В книгу вошли литературные портреты Б. Шоу, Ч. Диккенса, Д. Байрона, У. Теккерея и других писателей, публицистические очерки жизни и нравов современного Честертону общества, эссе на нравственно–этические темы.
Большинство материалов публикуется впервые.
Писатель в газете - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я чувствовал всегда, что детство было моей настоящей жизнью, истинным началом чего–то очень важного. Тогда я знал, а после забыл, что такое жить. Когда я выходил из дому и видел за кирпичными домами, за уступами улиц, спускающихся к Холланд–парку, сверкание Хрустального дворца [12] Холланд–парк — парк в западной части Лондона, назван по имени бывшего владельца лорда Холланда. Хрустальный дворец — огромный павильон, построенный в 1851 г. для «великой выставки», сгорел в 1936 г.
(мы, мальчишки, спорили в те дни, кто его скорей увидит), я знал, сам того не зная, что передо мной лежит белая прямая дорога. Человеческая жизнь начинается светом и правдой; только позже мы вступаем в туман или сворачиваем в сторону. Это мы, взрослые, живем игрой и притворством, это мы спим наяву…
ИЗ ГЛАВЫ «КАК СТАТЬ ТУПИЦЕЙ»
Отрочество — штука сложная и непонятная. Даже те, кто через него прошел, не понимают, что же это было. Мужчина не поймет мальчика, хотя и был им. В отрочестве недавний ребенок обрастает, словно шерстью, защитной оболочкой. Он становится бесчувственным и беззаботным, в нем странно сочетаются бесцельное буйство и страсть к условностям. Я начинал какое–нибудь в буквальном смысле слова дикое озорство, так и не зная, зачем я все это делаю. Когда я впервые встретил на школьном дворе своего будущего лучшего друга [13] Речь идет о писателе Эдмунде Бентли.
, мы зверски дрались сорок пять минут, без всякой причины, не из мести (я никогда его раньше не видел, и позже он мне очень понравился), но по какому–то странному импульсу. Мы бились, пинались, катались в грязи, и все это время сознание наше было беззлобным и ясным. Когда же мы устали вконец и он упомянул что–то не то из Диккенса, не то из другой моей любимой книги, мы завели разговор о литературе, который продолжается и по сей день. Объяснить это невозможно, если даже те, кто был занят в драке, ничего не могут объяснить. С тех пор я видел мальчиков во многих странах — египетских мальчиков на базарах Каира, мулатских мальчиков в трущобах Нью–Йорка. И открыл, что по неведомому закону все они склонны к трем вещам: ходить втроем; бродить без цели; внезапно и без причины драться и так же внезапно и без причины драку кончать.
Быть может, вы спросите, при чем же тут условности. Действительно, два дельца не дерутся развлечения ради, испытывая друг к другу самые теплые чувства. Можно возразить, что дельцы так сильно не дружат. Однако отрочество знает условность; именно она и отличает его от детства. Когда я ходил в школу Сент–Пол [14] В привилегированной школе Сент–Пол, основанной в начале XVI в., Г.К.Ч. учился в 1887—1892 гг.
, там мы всячески подчеркивали свою независимость, не слишком истинную, ибо мы были не слишком взрослыми. Здесь нужно вспомнить то, что я говорил о раннем детстве. Ребенок не больше притворяется индейцем, чем Шелли притворялся облачком или Теннисон — ручейком [15] Стихотворение Шелли «Облако» (1820) и фрагменты идиллии Теннисона «Ручей» (1855) написаны от первого лица.
. Но школьник действительно притворяется мужчиной, и бывалым мужчиной. В мое время мы бы лопнули от стыда, если бы товарищи узнали ужасную тайну, что у нас есть сестра или что дома нас называют уменьшительным именем. Удар был бы смертелен, поскольку разбил бы всю условность нашей жизни, ведь мы притворялись, что каждый из нас — независимейший джентльмен, живущий на собственные средства. О том, что у нас есть родители и они содержат нас, упоминать не полагалось, и тайну эту являли миру только в пылу ослепления. Заметьте, такая условность не лишена порочности именно потому, что она серьезней, чем детские игры. Мы обретали то, чего не бывает у ребенка, — снобизм. Ребенок очищает все свои превращения словами: «Давай поиграем». Мы, школьники, не говорили так; мы просто играли кого–то.
ИЗ ГЛАВЫ «КАК СТАТЬ БЕЗУМЦЕМ»
В этой главе я пишу главным образом о тех временах, когда я учился живописи [16] Г.К.Ч. учился живописи в 1892—1895 гг. в так называемой школе Слейда — художественном училище при Лондонском университете.
, и потому она, конечно, пропитана соответствующей атмосферой. Учиться живописи очень трудно, но большинство учеников не учится совсем. Училище живописцев — это место, где двое или трое работают с яростным рвением, а все остальные ленятся так, что трудно себе представить. Мало того, те, кто трудится, не глупее других — этого я не скажу, но ограниченней, ибо ум их целиком направлен на технику мастерства. Они не склонны к спорам и сомнениям, поскольку пытаются овладеть чем–то конкретным и частным, как игра на скрипке. Философия остается праздным и чаще всего заражается от них праздностью. Во времена, о которых я повествую, она была к тому же разрушительной до нигилизма. Я никогда не принимал ее полностью, но она отбросила тень на мое сознание, и по ее вине я ощутил, что самые достойные идеи надо защищать. Об этом я еще поговорю; сейчас мне важно рассказать, что в училище живописи можно очень лениться, и я ленился вовсю.
Быть может, искусство и живет долго, но школы и направления живут недолго. С тех пор как я учился, их сменилось пять или шесть. Тогда царили импрессионисты, и никто не смел подумать, что возможен постимпрессионизм или постпостимпрессионизм. Мне кажется, импрессионизм имел духовное значение, тесно связанное с тем, что он царил в эпоху скепсиса. Я хочу сказать, что он выражал ту сторону скепсиса, которую можно назвать субъективностью. Он стоял на том, что, если вместо коровы мы видим белую линию и лиловую тень, мы должны изобразить тень и линию и в определенном смысле верить лишь в них, а не в корову. Импрессионист говорит, что видит именно лиловую корову, или даже не корову, а просто лиловый цвет. Хорош или плох такой метод в искусстве, мыслить так нельзя, здесь слишком много субъективности и скепсиса. Отсюда ведь неизбежно вытекает философское предположение: предметы существуют, поскольку мы их видим, или не существуют совсем. Философия импрессионизма по неизбежности близка к философии иллюзий. Такая атмосфера, пусть косвенно, способствовала ощущению одиночества и нереальности, томившему тогда и меня, и, должно быть, многих других.
…Честно говоря, история того, что именуют моим оптимизмом, была довольно странной. Когда я побывал в темных глубинах тогдашнего пессимизма, все возмутилось во мне; я захотел изгнать злого духа, стряхнуть дурной сон. Но поскольку думал я сам, почти не обращаясь к философии, совсем не обращаясь к религии, я изобрел на скорую руку собственную теорию. Была она примерно такой: чтобы сильно радоваться, достаточно простого бытия, сведенного к самой малой малости. Все прекрасно в сравнении с небытием. Даже если дневной свет нам снится, это хороший сон. В нем нет неподвижности кошмара хотя бы потому, что мы можем двигать руками и ногами (или теми странными придатками, которые так зовутся). Если же это кошмар, значит, и кошмары радостны. Словом, я был довольно близок к изречению моего деда–пуританина, который сказал, что он благодарил бы бога за этот мир, даже если был бы обречен — на вечную гибель. Я был связан с остатками веры ниточкой благодарения. В отличие от Суинберна я благодарил богов не за то, что нет вечной жизни [17] «Мы благодарим богов… если они есть, за то, что никто не живет вечно». Из стихотворения А. Ч. Суинберна «Сад Прозерпины» (1866).
, а за то, что вообще есть жизнь; в отличие от Хенли я благодарил их не за мою непобедимую душу [18] Поэт–калека У. Хенли в стихотворении «Invictus» («Непобедимый»), созданном в 1874 г. в Эдинбургском госпитале, писал: «Я благодарю богов, если они есть, за мою непобедимую душу».
(здесь мой оптимизм не так силен), а за мою душу и за мое тело, хотя их нетрудно победить. Такому взгляду на мир, такому минимуму благодарности немало помогали, конечно, те немногие из модных тогда писателей, которые не были пессимистами, особенно Уитмен, Браунинг и Стивенсон. Но я не боюсь признаться, что понимал это по–своему, даже если не слишком ясно видел и плохо выражал. Сумел я сказать об этом или не сумел, думал я так: никто не знает меры своего оптимизма и может называть себя пессимистом, пока не измерил, как глубок его долг тому, что его создало и дало ему возможность вообще существовать. Где–то на дне сознания. думал я, таится тот забытый миг, когда мы впервые удивились тому, что существуем. Творческая и духовная жизнь должна вытянуть, вытащить эту зарю удивления, чтобы человек, попросту сидящий в кресле, вдруг понял, что жив, и стал счастливым. В ощущении моем были и другие стороны, а в мысли — другие доводы, к которым я еще вернусь. Здесь это — необходимая часть повествования, ибо иначе не расскажешь, что, начиная писать, я был преисполнен яростного пыла, обращенного против декадентов и пессимистов, которые правили культурой той поры.
Интервал:
Закладка: