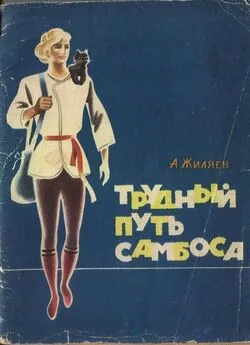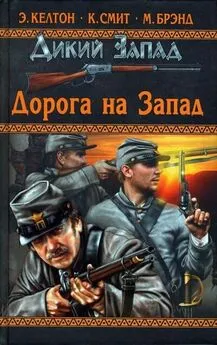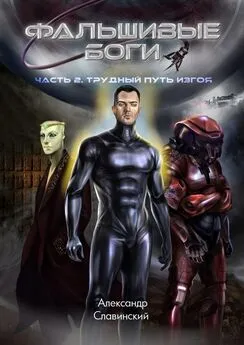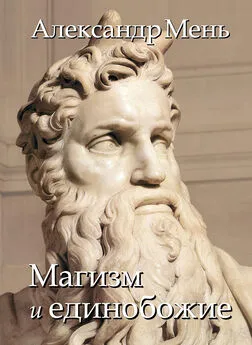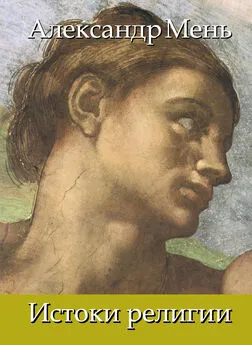Александр Мень - Трудный путь к диалогу
- Название:Трудный путь к диалогу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мень - Трудный путь к диалогу краткое содержание
Трудный путь к диалогу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Именно это свойство и объясняет возможность Грехопадения, хотя и не делает его фатальным.
Среди современных библейских комментаторов принято считать, что символическая картина вторжения в мир греха не исчерпывается сказанием об Адаме Первочеловеке. Она включает в себя историю первого братоубийства, растления земли перед Потопом и сооружение Вавилонской башни. Таким образом, перед нами как бы драма в четырех актах.
Каков смысл первого сказания? Его интерпретация зависит от того, как трактуется образ Древа познания добра и зла. Мы не будем перечислять здесь всех концепций. Остановимся лишь на одной.
Прежде всего, Древо - это широко распространенный в древней эмблематике символ Вселенной, мироздания в целом. Когда Библия называет Древо "эц хадаат тов вэра" , Древом познания добра и зла, она имеет в виду не столько нравственные категории, сколько полярные свойства природы: "полезное" и "вредное", "добротное" и "опасное" (по типу Янь и Инь в китайской метакосмологии). Вот почему словосочетание "тов вэра", добро и зло являются идиомой, соответствующей выражению "все на свете".
Можно ли в таком случае интерпретировать образ Древа как символ познания мира, чуть ли не науки? Не окажется ли тогда, что Бог, наделив человека разумом, Сам же закрыл для него путь к использованию этого дара? Недоумение разрешается, если учесть полисемантичность слова "даат", познание. Современная мысль привыкла отождествлять познание с интеллектуальной деятельностью, с рациональным постижением природы вещей. Между тем в семитических языках слово "познание" имеет иной оттенок. Оно означает обладание и любовь, влечение и умение. Его прилагают и к супружеским отношениям, и к владению мастерством.
В свете такого понимания текста, посягательство человека на плоды Древа познания добра и зла можно истолковать как его стремление обладать, владеть миром.
Но не вступает ли тогда запрет вкушать от Древа в противоречие с царственным положением человека, с его достоинством? И как тогда понять заповедь, данную Первочеловеку, который был поставлен "охранять и возделывать" сад Эдема? Ведь подобная трудовая деятельность есть тоже проявление власти над природой.
Ответ, по-видимому, заключается в том, что запретное Древо символизирует власть автономную, независимую от Творца, власть, которую человек пытается реализовать вопреки Ему, только в своекорыстных целях.
Поучителен в связи с этим диалог между Женщиной и Змием. Искуситель начинает с того, что осторожно и незаметно подрывает в ней доверие к Богу, а затем говорит, что, если люди вкусят от Древа, они "будут как боги" (элогим). Тонкость его лжи усугубляется еще и тем, что человек вовсе не примитивная тварь, которая возмечтала о неподобающем ей месте. Библейское учение признает не только богоподобие человека, но и его "обожение" ("теозис", если употребить патриотический термин). В 81 псалме Создатель говорит людям: "Вы - боги (элогим) и сыны Всевышнего". На эти слова ссылается и Христос (Ин 10, 34 сл.). В 8 псалме сказано:
Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов,
на луну и звезды, которые Ты поставил,
То что есть человек, что Ты помнишь его,
и сын человеческий, что Ты посещаешь его?
Не много Ты умалил его пред Ангелами (элогим),
славою и честью увенчал его;
поставил его владыкою над делами рук Твоих;
все положил под ноги его...
Чем же отличаются слова псалмопевца от посулов Змия? По-видимому, тем, что Змий предлагал людям осуществить свои возможности помимо Бога, превратив свое богоподобие в орудие мятежа. В результате Первочеловек лишается близости с Творцом, покидает пределы сада Божия.
Можно сказать, что в Грехопадении проявилась та тенденция, которая присуща психологии магизма. Ведь захватить в свои руки все силы мира и автономно управлять ими и есть цель всякой магии.
Нечто сходное находим мы и в сказании о Каине и Авеле. По какой-то сокровенной причине Бог принимает жертву Авеля, а жертву Каина отвергает. И тогда отвергнутый устраняет, убивает соперника, рассчитывая, что таким путем, оставшись один, вырвет у Бога Его дары. Примечательно, что в Кн. Бытия основы цивилизации закладывают именно потомки Каина. Хотя сама цивилизация в принципе не осуждается. Библия дает понять, что в ней с самого начала прорастали семена греха.
Предпотопная ситуация символизируется брачным союзом между людьми и "сынами Божиими", сверхчеловеческими существами. Если же мы вспомним, что в библейских иносказаниях брак часто означает религиозный Завет, то будем вправе заключить, что речь здесь идет о начале язычества. Знаменательно, что в мидраше книги Еноха это сказание истолковано в том смысле, что "сыны Божии" научили людей магии. К антропологической теме относится и сказание о Потопе. Поскольку люди изменили своему призванию, извратили свои пути, вся природа как бы лишается своей ценности и отброшена в первозданное состояние водного Хаоса.
Пролог Бытия завершает сказание о башне, вершина которой должна была достичь неба. Согласно контексту, она предназначалась служить ориентиром на бескрайних равнинах, что помогло бы укрепить человеческое единство. И опять-таки это делается автономно, помимо Бога. А то, что Бог вынужден был "сойти", чтобы рассмотреть башню, указывает на ничтожность горделивого замысла строителей.
В каждом из четырех актов драмы Грехопадения присутствует один существенный момент: хотя человек и пожинает горькие плоды своего мятежа, Бог сохраняет его для будущего. Не погибают ни Адам, ни Каин; в катастрофе Потопа спасается род Ноя; строители башни не исчезают, а лишь рассеиваются по лицу Земли. Это свидетельствует о ценности человека во вселенских замыслах Предвечного. Среди массы тех, кто сказал Богу "Нет", постоянно отыскивается меньшинство, говорящее Ему "Да". На этом построена одна из осевых тем Библии - тема Завета, Она составляет ядро библейской сотериологии, которая необыкновенно важна для понимания антропологической аксиологии Писания. Бог может спасти человека от зла и греха лишь при его собственном участии, при наличии веры, доверия к Творцу. Такое доверие и проявил Авраам, которого апостол Павел называл "отцом верующих".
Сотериология Библии тесно связана с проблемой личности. Хотя Завет заключается через отдельных людей (Ноя, Авраама, Моисея и др.), долгое время он относился к человечеству или к группе людей. Это перекликается с обилием в Ветхом Завете эпонимов и так называемых "корпоративных личностей" (термин Генри Робинсона).
Вопрос о личном посмертном воздаянии не возникает в течение всего допленного периода. Сотериология распространяется главным образом на род, этнос, потомков. Лишь постепенно, по мере роста личностного самосознания, подобный коллективизм перестает удовлетворять. Рубежом нового этапа библейскою откровения можно назвать Книгу Иова. Она говорит о ценности и судьбе личности. По-видимому, в корне не правы те комментаторы, которые пытались представить Иова "корпоративным" персонажем, олицетворением страждущего Израиля. В таком случае оставалась бы надежда на улучшение участи народа в грядущем (к тому же Иов и родом не израильтянин). Кн. Иова, напротив, сосредоточена на трагичности бытия отдельного человека, жизнь которого коротка и эфемерна. И только после духовного кризиса, отраженного в споре Иова с Богом, ветхозаветному человеку дается откровение о всеобщем восстании из мертвых (Апокалипсис Исайи, Кн. Даниила, 2 Маккавейская книга).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: