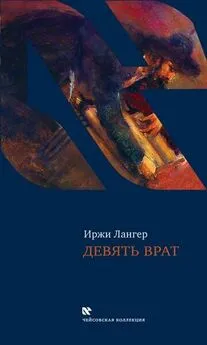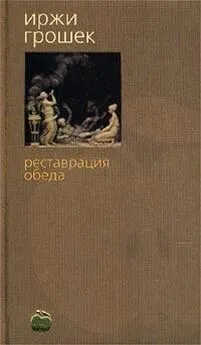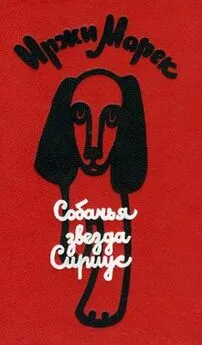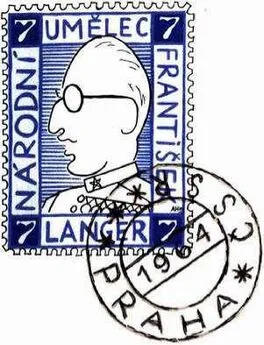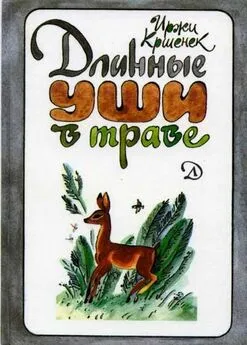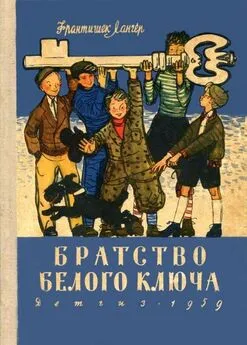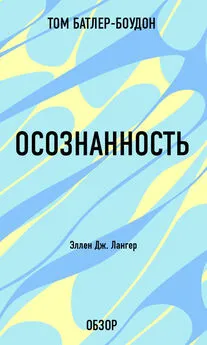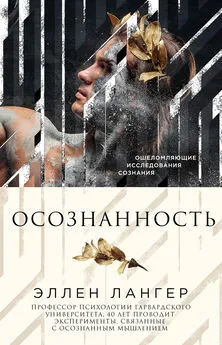Иржи Лангер - Девять врат. Таинства хасидов
- Название:Девять врат. Таинства хасидов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст, Книжники
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7516-0990-0, 978-5-9953-0133-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иржи Лангер - Девять врат. Таинства хасидов краткое содержание
Иржи Лангер (1894–1943), чешско-еврейский писатель и поэт, друг Франца Кафки и Макса Брода, прославился своими исследованиями учения галицийских хасидов. Писал на чешском и на иврите. Хасидские легенды сборника «Девять врат», увидевшего свет в 1937 году, пленяют читателя предельной искренностью, поэтичностью, влюбленностью автора в своих героев — раввинов и мудрецов, способных творить чудеса. Находясь с Господом в чрезвычайно близких отношениях, они позволяют себе быть с Ним накоротке, чуть ли не дерзить, и оттого иное чудо, совершаемое Богом, выглядит как оказанное соседу одолжение. Рассказы повествуют о хасидах, об этих особенных Божьих детях, которые благодаря своей безграничной набожности обладают редкими привилегиями — они могут через своих святых попросить у благосклонных Небес всего, что им необходимо для жизни. Однако жизнь эта такая скромная и их просьбы так соразмерны с этой жизнью, что они могли бы получить испрошенные дары и без всякого чуда.
Девять врат. Таинства хасидов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В старости святой рабби Шулем ослеп. По сути, это было особой милостью Божией, что святой муж уже не должен был смотреть, как постоянно множится порочность нашего мира. Нет ничего удивительного, что он дожил до преклонного возраста — он ушел, когда ему было без малого сто лет, — но было бы странно, если бы ему пришлось покинуть наш мир преждевременно, когда он был в полном здравии. Такого, к счастью, не случилось!
Приближался праздник Нового года, когда Бог судит все свои творения, и по этому поводу, согласно мудрому совету Шульхан аруха , каждая община выбирает всеми любимого и совершенного во всех отношениях мужа, который перед алтарем ведет богослужение для всех присутствующих. Община, в которой нет такого человека, обычно приглашает его из другого места, зачастую издалека. Нечто подобное происходило на Небесах в году 5615 от сотворения мира. Тогда все святые и ангелы тщетно искали, кого бы им выбрать из своей среды в ходатаи перед Господом Богом. Но ни один ангел не был так любим, так совершенен и набожен, как наш святой рабби Шулем из Белза. И потому ангелы Господни пригласили его быть их кантором на новогоднем празднике. В день 27-й осеннего месяца элула, то есть за три дня до праздника Рош а-Шана , он покинул наш мир навсегда.
Но даже после ухода из этого мира реб Шулем со своими хасидами не расставался. Дело в том, что после кончины святого вспыхнули споры касательно его преемника. Одни хотели, чтобы им стал младший сын Шулемов, весьма ученый реб Шийеле, другие отстаивали обычную практику в хасидских семействах, утверждающую право старшего сына раввинова. К тому же этот последний готов был защищать свое святое право до самого конца! И вот в ту минуту, когда реб Шийеле по желанию своей «партии» подошел к алтарю и переполненная молельня замерла в ожидании, каким путем пойдет новый цадик в своем служении Господу, его старший брат попытался силой продраться сквозь толпу, чтобы оттолкнуть брата и встать на его место перед алтарем. Приблизившись, он вдруг почувствовал на плече руку. Он обернулся, и, о диво дивное, перед ним, лицом к лицу, стоит его покойный отец, святой рабби Шулем, и грозно повелевает ему отступиться от своего намерения. Так после смерти отца белзским раввином стал его младший сын, реб Шийеле, и дом Божий был спасен от позора, от осквернения Имени Господня и от насилия.
И даже потом святой рабби Шулем не покинул своей любимой хасидской общины. Когда мы молимся сообща, он приходит в нашу синагогу и садится на старом месте, куда никто другой сесть не смеет. А по большим праздникам его живой потомок и преемник покидает свое место и встает рядом с молитвенным аналоем, где молится бааль-тфиле (чрезвычайно набожный хасид, которому, подобно кантору в Западной Европе, поручено вести богослужение.) Рабби делит с ним свой махзор (молитвенную книгу). Тут приходит святой рабби Шийеле, к тому времени уже давно усопший, и садится на освобожденное место своего живого потомка, рядом со своим отцом, святым рабби Шулемом. Они оба, естественно, незримы для присутствующих хасидов. Только бааль-тфиле должен следить за тем, чтобы во время молитвы «Короной украшаем Тебя» не оторвать взора от молитвенной книги, ибо в эти минуты он единственный, кто может узреть их святые лики. И горе ему, если он каким-то образом даст знать, что увидел светлую бороду реб Шулема! Такой бааль-тфиле не проживет и года. Однако, пожалуй, никто из тех, кому до сих пор было предназначено видеть покойного святого — а таких бааль-тфилов набралось уже немало, — не сумел совладать с собой и сохранить молчание. Пусть память о них будет благословением нам, и пусть Свет их заслуг хранит нас, ибо уже давно их души связаны союзом вечной жизни со всеми праведными и верующими в саду Едема, АМИНЬ!
Врата вторые
Все вы, коль жить хотите,
со мной в другие Врата войдите
и про все прочтите:
как скот пшемышлянский был мором поражен и как посольством Майрла Пшемышлянского был снова исцелен. — Как святой Майрличек за грешников вступается и как со Всевышним препирается. — Как Майрл шабес вином не освящает и как он медовуху благословляет. — Как христианин Майрловым хасидом стал и как потом он башмаки раздавал. — Как святой Иреле из Стрелиски магический дар у Майрла отнять собирается. — И как Майрл знать не знает, чем креплах начиняются. — Как святой Риженский дает Майрличку совет весьма пригодный. — И что в конце концов погасли свечи в Садагоре. — Что он все про все знает — пускай никто так не считает; я расскажу вам все по правде, свято; с пятого на десятое.
Дитя Божье, ликом небожитель,
возница, боевая колесница,
за весь Израиль ты проситель,
учитель наш и господин
СВЯТОЙ МАЙРЛИЧЕК ПШЕМЫШЛЯНСКИЙ,
да хранит нас неустанно Свет его заслуг!
Майрличек Пшемышлянский сполна заслужил расположение святой Малкеле своей заботой о домашней птице. Он был из тех святых, чьи молитвы Господь Бог никогда не пропускает мимо ушей. А сколько чудес совершил милый Майрличек! Они могли бы составить хорошую книжку!
В сравнении с Белзом Пшемышляны — крупный город. Поляков и евреев в нем больше на несколько тысяч душ. А что до скота — того и вовсе не счесть. Вот как раз об этом пшемышлянском скоте и пойдет речь.
Однажды на скот пшемышлянский нашел мор. И прибежал к Майрличеку один хасид с громкими причитаниями: что, мол, теперь делать ему? Весь, мол, скот чумой заражен.
«А ты бегай вокруг хлева и повторяй гимн, что мы читаем на шабес: „Бог есть владыка надо всеми тварями…“», — посоветовал ему Майрличек.
Хозяин сделал так, и весь скот выздоровел.
У его соседа тоже весь скот зачумился. Видя, как поступает друг, и этот хасид стал бегать вокруг хлева своего и возносить ту же молитву. Но все было попусту. Он тоже кинулся к Майрличеку за советом.
«Бегай вокруг хлева и молись: „Бог есть владыка надо всеми тварями!“»
«Но, ребе, — причитает хасид, — я уже сделал так по своему почину, да никакого толку».
«Глупец! — вскричал Майрличек. — Ты как думаешь, твой Бог такой же владыка, как и Майрличков?..»
На сей раз хасид, наделенный полномочиями Майрличека, пошел домой и сделал так, как ребе ему посоветовал, — и все стало хорошо. Скот его выздоровел.
Как уже было сказано, Майрл говорил о себе только в третьем лице и никогда в первом. Выходило примерно так: Майрл хочет, Майрл не хочет, Майрличек тут, Майрличек там… И это было вполне справедливо, ибо «я» всего лишь вспомогательное слово, каким наша несовершенная человеческая речь просто помогает преодолевать трудности. Человек, по сути, никакого «я» не имеет. Он есть ничто, совершеннейшее ничто, или, как толкует каббалистическая книга Тикуним , означает древнееврейское слово айн , то есть НИЧТО, а слово ани , «я», сложено из тех же звуков, только переставленных. Отдельные святые употребляли, например, вместо «я» слово «мы». И вовсе не затем, чтобы употребить еще более горделивое pluralis majestatis [16] Множественное возвеличения: употребление говорящим множественного числа о самом себе как выражение самовозвеличения (лат.).
, но лишь по той причине, что человеческий индивид не являет собой нечто отдельное, цельное, а состоит из совокупности многих неделимых душ — стало быть, ни о какой «индивидуальности» не может быть и речи. Мы никоим образом не обособлены друг от друга, ибо весь мир Божий — одна громадина, одно тело. Но если вы хотите убедиться, свят ли тот или иной человек, кого вы еще не знаете, вам стоит только спросить его: «Вы изволите быть господином X или господином Y?» И если он ответил: «Да, это я», можете быть уверены — это не святой.
Интервал:
Закладка: