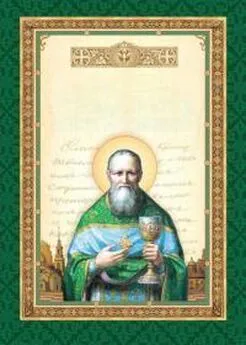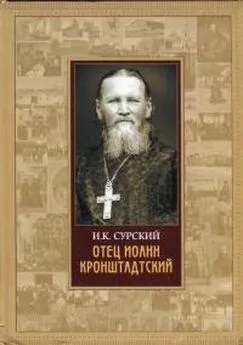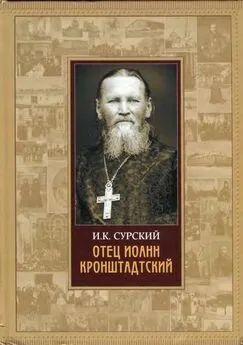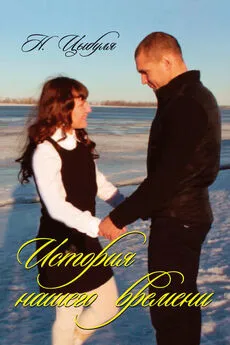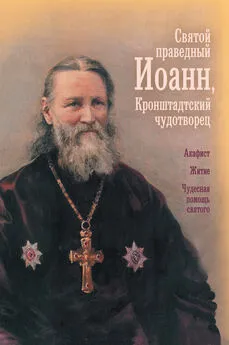Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ
- Название:Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-443-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ краткое содержание
В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.
Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Адресованные пастырю письма — еще один уникальный массовый источник. Около десяти тысяч писем хранится в ЦГИА СПб. И это — всего лишь незначительная часть эпистолярного наследия о. Иоанна, поскольку в последние годы его жизни одна лишь исходящая от батюшки корреспонденция насчитывала в среднем пятнадцать тысяч писем в год {23} 23 В одном личном зарубежном архиве хранится письмо, написанное о. Иоанном, датированное 27 июля 1905 г. и пронумерованное делопроизводителем батюшки под номером 8994. Если только к концу июля 1905 г. пастырь отправил около девяти тысяч писем, то это соответствует среднемесячному объему его корреспонденции в 1285 писем. При сохранении подобной интенсивности переписки за год могло быть отправлено 15 500 писем.
. Безусловно, настоящая книга не претендует на исчерпывающий анализ этого массива, однако даже приведенные в ней самые общие характеристики просьб паствы помогают глубже осмыслить феномен живой святости о. Иоанна. Мы видим, что от батюшки ожидали помощи практически в любой проблеме, с которой мог столкнуться человек в своей жизни, будь то деловые переговоры или выбор номера для счастливого лотерейного билета, излечение больных родственников или обучение Иисусовой молитве. Ведь, в конце концов, как бы ни был популярен и почитаем святой, но если он реально, на деле не помогает людям, причем самых разных слоев общества, то народ неминуемо отворачивается от него и начинает искать того, кто способен взвалить на себя такую миссию.
Глава 1
СОТВОРЕНИЕ ПАСТЫРЯ
Приходское духовенство и православная традиция в модернизирующейся России
Детство Иоанна Сергиева выпало на эпоху Николая I. К этому времени запущенные Петром Великим модернизационные преобразования уже заметно осложнили жизнь приходского духовенства и даже серьезно понизили его общественный статус. Да, русские продолжали оставаться одним из самых воцерковленных и благочестивых народов Европы {24} 24 Несмотря на то что в недавнем прошлом преднамеренно заострялось внимание на фактах несоблюдения церковных обрядов (например, небрежное отношение к исповеди), по данным официальной статистики, степень воцерковленности населения была действительно высокой. См.: Литвак Б. Г. Русское православие в XIX веке // Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 372–373; Емелях Л. И. Исторические предпосылки преодоления религии в советской деревне. Л., 1975. С. 122–125; Freeze G. L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton, 1983. P. XXIX.
. Однако народное благочестие отнюдь не всегда автоматически подразумевало почитание священника, поставленного вести свою паству. После петровских преобразований незыблемое положение приходских пастырей заметно пошатнулось, к ним даже могли теперь применяться телесные наказания {25} 25 Cracraft J. The Church Reform of Peter the Great. Stanford, 1971. P. 242–251.
. Наиболее распространенные религиозные обычаи — будь то паломничество, почитание местных святынь, икон и мощей — не были напрямую связаны с приходским духовенством. Зато монашество по-прежнему высоко чтилось и считалось наиболее богоугодной формой церковного служения. Традиционное почитание монашества неизбежно приводило к определенной десакрализации приходских батюшек, бывших в подавляющем большинстве людьми семейными и, следовательно, остававшимися в этом бренном земном мире. В то же время монашествующие, а также различные Божьи люди — странники, отшельники, блаженные — в сознании большей части как мирян, так и самого клира находились как бы ближе ко Творцу {26} 26 О духовном превосходстве юродивых и странников см.: Райские цветы с русской земли / Сост. П. Новгородский. Сергиев Посад, 1912.
.
Священники уступали не только чернецам и подобного рода подвижникам, но и архиереям. Только если в первом случае приходским батюшкам не хватало личной харизмы, то во втором явно недоставало официальной влиятельности и материального достатка. Столь несообразное значение священников — самой массовой части духовенства, на которую менее всего обращали внимание, — отразилось и на русской святости. К XIX в., спустя восемь с лишним веков после крещения Руси, практически ни один из представителей белого духовенства не был канонизирован. Основные «персонажи» Минеи — монашествующие и архиереи, светские правители и воины, разного рода Божьи люди. В Российской империи середины XIX в. святость по-прежнему определялась либо некоей врожденной «неотмирностью», либо причастностью к власти {27} 27 См.: Голубинский Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903. С. 109–198. Впрочем, некоторые священники, отличившиеся своей праведностью. почитались, хотя и на местном уровне. См.: Ефремов Л. В., прот. Добрый пастырь: краткое описание жизни отца Иоанна Борисовича, священника Преображенской церкви города Ельца (1750–1824). Воронеж, 1893.
.
Маргинализация приходского духовенства в русской традиции благочестия была также связана и с постепенным снижением роли таинства Святого Причастия, изначально центрального в церковной жизни. Подобное отношение к этому таинству имело долгую предысторию как в России, так и вообще в православной церковной традиции, восходящей к словам Кирилла Иерусалимского о благоговейном трепете и утвердившейся в богослужебной практике множеством канонических правил {28} 28 По словам Кирилла, Святые Дары вызывают ни с чем не сравнимый «благоговейный страх», или phrikodestatos, что буквально означает «нечто, от чего волосы встают дыбом». См.: Dix D. G. The Shape of the Liturgy. L., 1975. P. 200.
. В соответствии с церковным учением о Евхаристии считалось, что если причастник принял Святые Дары, не подготовив себя должным образом, то его неминуемо ждало суровое наказание за небрежное отношение к этому ключевому и установленному Самим Спасителем таинству. Поэтому нередко случалось, что прихожане не отваживались подходить к Святой Чаше, даже исповедавшись и получив отпущение грехов {29} 29 См.: Костомаров H. (сост.). Памятники старинной русской литературы. М., 1862. Т. 4. С. 186.
. В результате установившаяся к XVI в. практика Святого Причастия только раз в году считалась нормой и продержалась вплоть до XIX в. Более того, в России евхаристические правила были зафиксированы и на законодательном уровне. В итоге целые государственные учреждения, гвардейские полки и гимназические классы были обязаны причащаться в определенные и строго установленные для них дни. Таким образом, церковное таинство становилось не только религиозным обрядом, но и верноподданнической обязанностью {30} 30 Даже в начале XX в., по сообщению «Новой жизни», директор петербургского телеграфа распространял среди своих подчиненных специальное предписание, «указывавшее им на необходимость исповедаться и причаститься Святых Таин во время Великого поста». См.: Новая жизнь. № 383 (2–15 марта 1906 г.). С. 3. Епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский) приводит высказывания государственных служащих, готовящихся к причастию: «Я намереваюсь воздать Господу причитающееся Ему». См.: Alexander; bishop. Father John of Kronstadt: A Life. Crestwood. 1979. P. 32.
.
Интервал:
Закладка:
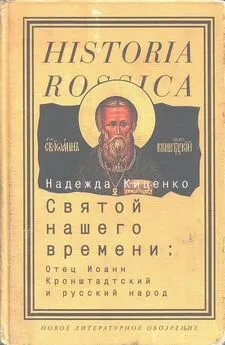
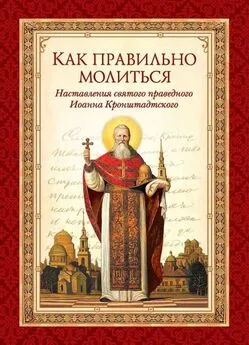
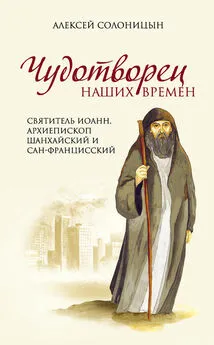
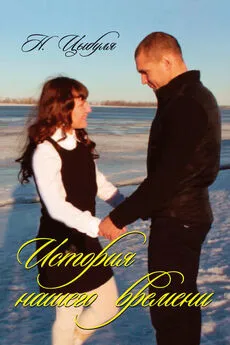

![Алексей Солоницын - Чудотворец наших времен [Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский]](/books/1071853/aleksej-solonicyn-chudotvorec-nashih-vremen-svyatitel-ioann-arhiepiskop-shanhajskij-i-san-francisskij.webp)