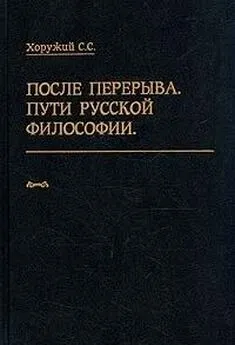Сергей Хоружий - После перерыва. Пути русской философии
- Название:После перерыва. Пути русской философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Хоружий - После перерыва. Пути русской философии краткое содержание
С. С. Хоружий. После перерыва. Пути русской философии.
Здесь только первая часть — О пройденном: вокруг всеединства
Источник: http://www.synergia-isa.ru
После перерыва. Пути русской философии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Разумеется, эта демонстративная предвзятость исключает нормальный философский анализ, как уже сказано. Заменяется же он в книге двумя вещами. Во-первых, поверхностным пересказом отдельных тем, или идей, или просто отдельных сочинений очередного автора. Выбор этих обрывков и островков философского учения, как правило, выпячивает второстепенное, обходит главное и не дает никакой связной картины целого. Во-вторых, грубым, не стесняющимся в выражениях, охаиваньем и глумливым зубоскальством. «Неокантианская фанаберия», «незадачливый идеалист» (это —о С.Н. Трубецком), «в разгоряченном мозгу интуитивистов» — вот типичные философские оценки автора; а Н. Бердяева, скажем, он наделяет таким диковатым титулом: «премьер в измене экономическому детерминизму». «Важное достижение!», «Они же самостоятельные мыслители!» — развязно ухмыляется он в адрес русских философов (в первом случае речь о Вл. Соловьеве, во втором — о Франке и Лосском). Эта подмена профессионального разбора грубым разносом и нелепыми ярлыками, прямиком унаследованная от погромной «философии» сталинских лет, не может быть терпима сегодня.
Еще одно-два общих замечания необходимы прежде обзора глав. Во всякой работе широкого, панорамного охвата важно найти классификацию материала, адекватную его внутреннему строению; в данном же случае — нужно разобраться в членении русского идеализма на школы, русла и направления. Хотя исследователями тут уже был накоплен немалый опыт, автор не сумел им воспользоваться: в его классификации царят произвол, нелепица и грубейшие ошибки. Случайное обстоятельство открывает нам его беспомощную неуверенность в этом вопросе: рукопись книги подготовлена в явной спешке, и из текста ее мы видим, что Л. Шестов первоначально был отнесен к разделу философской антропологии, в последний момент оттуда изъят и заменен Н.Ф. Федоровым. Замену эту, однако, автор проделал халатно — а, может быть, полагал, что то, что подходит Шестову, сойдет и для Федорова — словом, так или иначе, но на с. 473 профессор нам сообщает, что Н.Ф. Федоров «.. .стал в эмиграции крупным представителем мирового экзистенциализма» (!!). Сам же Шестов в окончательном варианте отнесен к «философскому импрессионизму». Это новооткрытое направление нигде не упоминается, кроме названия главы, и заинтригованному читателю остается только гадать, был ли Шестов последователем Ренуара или Дега... Следующий же случай — самое безобразное невежество. В.Ф. Эрн, знаменитый своим ярым отрицанием Канта, кантианства и всей германской культуры (о чем сказано в любом словаре), причислен у М. к... марбургскому (?) неокантианству (??!). После этого уже как легкую шутку воспринимаешь отнесение Л.П. Карсавина к интуитивистам (с. 296), а В. Гольцева, который вообще не был философом, — опять-таки к неокантианству (с. 353). И, осознав всю степень ясности и глубины в представлениях автора о русской философии, уже не спрашиваешь оснований и причин, обнаружив большую главу о символизме в разделе... социологии.
Далее, не удивляет уже — но не может не отразиться на оценке работы — и то неожиданное обстоятельство, что при всем объеме труда, претендующего на полноту освещения русского идеализма, на поверку едва ли не все главные представители последнего оказываются в книге отсутствующими. Растянуто излагая многих незначительных и совсем побочных для традиции авторов, книга полностью обходит влиятельнейших и крупнейших — Флоренского, Булгакова, Е. Трубецкого, Карсавина; отсутствуют Эрн (за вычетом абсурдного зачисления в кантианцы), Шпет, еле упоминается Франк (ср. ниже). Это — если о лицах. А в горизонте идей, целиком утерянной оказывается, не говоря уж о прочем, вся русская софиология — истинное ядро русского идеализма, едва ли не единственное и, во всяком случае, крупнейшее философское направление, родившееся в России.
И в своем происхождении, и в развитии русский идеализм сохранял тесные, многообразные связи с христианской религией: с ее догматикой, учением о церкви, богословием и православным, и западным. Поэтому серьезная эрудиция в религиозных вопросах — одно из самых необходимых условий того, чтобы понимать русскую философию и судить о ней. Напротив, труд М. несет на себе печать глубочайшего невежества в вопросах религии. Следующий пример достаточно красноречив: «Уже Ф. Штраус и Бр. Бауэр неопровержимо доказали, что это евангелие (Евангелие от Иоанна) — наиболее мистичное из всех синоптиков» (с. 459). Неизбежное следствие религиозного невежества — неспособность отличить в этой сфере общее от особенного, новое от старого, частное мнение — от общепризнанных устоев. Чтение профессора М. —тяжелое и невеселое дело; и все же нельзя не развеселиться, когда ученый автор цитирует с атеистической похвалою, как дерзкое вольнодумство и «смерть теологии» ...парафраз общеизвестного изречения апостола Павла (с. 477—78). В этой же связи (и не только в этой) нужно сказать и о так называемом «светском богословии». Это — крупный и очень характерный элемент русской духовной традиции, с которым связаны многие ее важные вехи, от «Философических писем» Чаадаева до «Света Невечернего» Булгакова. Автор, как кажется, вообще не ведает о его существовании и, ощупью набредя на одного из его представителей, В.И. Несмелова, писавшего уже на грани нашего века, приписывает ему первооткрывательство всех вечных тем и вопросов «светского богословия», давно обсуждавшихся, скажем, Хомяковым и Киреевским.
Все сказанное говорит об одном и том же: автор владеет своим материалом на недопустимо низком, убийственно низком, на примитивном и безграмотном уровне. В сочетании с этою примитивностью, с тем, что он явно не постигает львиной доли в существе разбираемых учений, его покушения на иронию, на позицию свысока, оборачивающиеся лишь распущенной грубостью, производят особенно тяжелое впечатление — карикатурное и отталкивающее. И сказанного, по сути, уже достаточно для вполне обоснованной оценки книги. Тем не менее, ради полноты суждения, мы добавим и некоторые основные замечания касательно конкретных разделов.
***
Будем здесь краткими. По поводу большого раздела о Вл. Соловьеве сказать можно многое; но главное, пожалуй, вот что. Все знают, на каких центральных понятиях зиждется метафизика Соловьева: это всеединство, София, в историософии и некоторых других разделах — теократия. Так вот: на всех 120 страницах соловьевской главы ни одно из этих понятий не нашло обсуждения! Без конца склоняя громкое слово, именуя всю систему Соловьева «философией всеединства», философ М. как-то не подумал поставить вопрос: а что же это такое — всеединство? Откуда произошло это специфическое понятие, столь много значившее для русской мысли? И как именно трактует его Соловьев? Пойдем далее. В основе всей ранней метафизики Соловьева — принцип «критики отвлеченных начал». Началами отвлеченными или отрицательными Соловьев именует такие, которые устанавливаются сознанием в итоге критической, дискурсивной работы над данными опыта, а также над началами положительными или религиозными, которые не вырабатываются сознанием, но принимаются верою [2] Мы говорим по необходимости упрощенно; полнее о понимании «отвлеченных начал» у Соловьева см. Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С. Соловьева. Т.I. М., 1913, с. 112-119.
. У автора же читаем: «Западные мыслители... хорошо понимают несостоятельность отрицательных отвлеченных начал. И они же совершенно беспомощны в утверждении положительных отвлеченных начал», (с. 279, курсив М.). Или чуть дальше: «решающее в положительной отвлеченности — мистическое начало». Но у Соловьева «положительность» и «отвлеченность» полярно противопоставляются друг другу, отвлеченность — всегда порок, заведомо отрицательное свойство! И все подобные обороты — чистейшая бессмыслица, доказывающая полное непонимание ключевых категорий Соловьева.
Интервал:
Закладка: