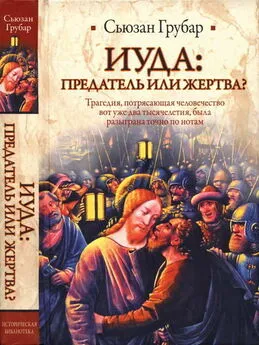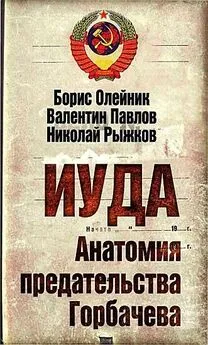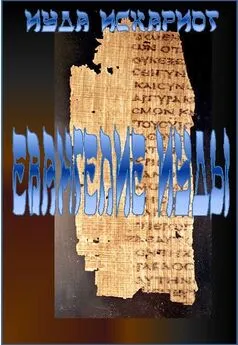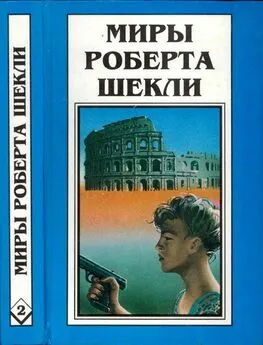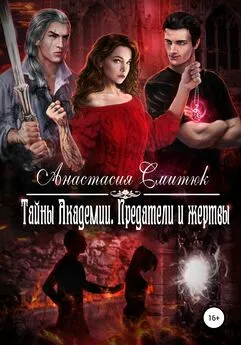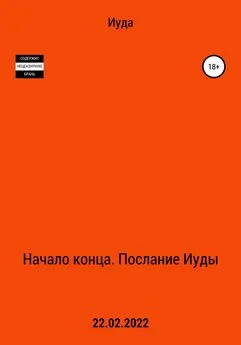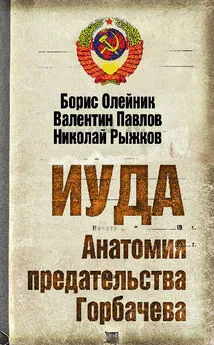Сьюзан Грубар - Иуда: предатель или жертва?
- Название:Иуда: предатель или жертва?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:97S-5-17-072459-8 (АСТ), 978-5-271-33614-0(Астрель)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сьюзан Грубар - Иуда: предатель или жертва? краткое содержание
Данная биография прослеживает восприятие Иуды со времени его появления на страницах Нового Завета до интерпретации его образа в современном кинематографе и художественной литературе. Образ Иуды всегда приковывал к себе внимание теологов и деятелей культуры, побуждая их предпринимать все новые и новые попытки постичь его характер. Данная книга — мета-биография, своего рода антология многочисленных биографий двенадцатого апостола.
Исследование эволюции этого образа позволяет раскрыть процесс зарождения христианства в недрах иудаизма и его последующее отделение от него, а также то значение, которое имеет общее наследие двух религий для христиан всех конфессий и иудеев из разных стран.
Иуда: предатель или жертва? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Переменчивое отношение к Иуде, который иногда представлен заклятым врагом Иисуса, а иногда самым близким другом Иисуса, проясняет, почему многочисленные исследования на тему антисемитизма воздерживаются от упоминаний о влиянии двенадцатого апостола. Даже самые важные теологи и историки религий, вовлеченные сегодня в христианско-иудейские дискуссии, предпочитают не затрагивать роль Иуды. [14] Иуду игнорируют даже теологи, признающие, что христианские проповеди могли содействовать нацистскому геноциду. Например, Павликовский в работе «Христос в свете иудейско-христианских диалогов» (см.: Pawlikowski, Christ in the Light of Jewish-Christian Dialogues) обсуждает позиции таких известных богословов, как Схиллебекс, Панненберг, Молтманн, Кюнг, Собрино и Гутиеррез, не касаясь Иуды вовсе. Не упоминается Иуда и в замечательной книге «Иисус, иудаизм и христианский антисемитизм: прочтение Нового Завета после Холокоста», изданной под редакцией Фридриксен и Рейнгарца. См.: Jesus, Judaism, and Christian Anti-Semitism: Reading the New Testament after the Holocaust, ed. by Fredriksen and Reinhartz.
Это отчасти вызвано тем, что антисемитизм не всегда привязан к Иуде, Иуда не всегда воспринимался евреем или символом Израиля, а значит, и сходство между Иудой и евреями случайно. На различных этапах эволюции своего образа Иуда попеременно выступает то как иудей, то как христианин, а то и вовсе как персонаж без определенной религиозной принадлежности. Как такое возможно и что это значит?
В последующих главах рассматривается предположение о том, что различные интерпретации Иуды — заклятого врага-иудея, противника Иисуса или самого близкого друга Иисуса — обусловлены неотделимостью иудаизма и христианства и отражают эту неотделимость начиная с библейских времен и вплоть до поздней Античности. В период, когда евреи-христиане и евреи-нехристиане пользовались составленными на еврейском языке священными текстами, а в недрах каждой из этих групп множились разнообразные секты с различными взглядами на разные вопросы религии, отличия между общинами верующих не разделяли население так сильно, как разделяет его сегодня исповедание четко разграниченных иудаизма и христианства. [15] Карен Армстронг считает, что ученики Иисуса «верили, что он скоро вернется, чтобы установить мессианское Царство Божье, и поскольку в таких представлениях не было ничего противного иудаизму, секту христиан признавали многие правоверные иудеи, в том числе и такие авторитеты, как раввин Гамлиил, внук Гиллеля» (Karen Armstrong, 79). Армстронг утверждает, что «последователи Иисуса, как все богобоязненные евреи, ежедневно бывали в Храме» вплоть до того самого дня, когда идея «Нового Израиля… стала новой языческой верой» (80).
Историки древности свидетельствуют, что с библейских времен и вплоть до IV в. множилось число и евреев-христиан, и евреев-нехристиан, равно как и христиан неевреев. Во всех этих группах были люди, истово отстаивавшие учение Иисуса, и те, кто не менее истово отвергал его. Многие остро полемизировали по поводу краеугольных вопросов этого учения, но лишь немногие оставались к нему равнодушными.
На невозможность в древние времена четко разграничить явление, обозначаемое термином «иудаизм», и веру, названную «христианством», указывает Даниэль Боярин: «Иудаизм не является «матерью» христианства; они близнецы, сросшиеся в утробе» (5). [16] Сегал также пишет, что «иудаизм и христианство — две религии- близнецы. Это поразительный факт, что религии, которые мы сегодня называем иудаизмом и христианством, зародились в одно и то же время и формировались в одной среде» (Segal, 1).
Фигура Иуды как раз дает нам один из ключей к осознанию этой связи. Временами причисляемый к апостолам, временами — инструмент в руках первосвященников, Иуда воплощает неразделимость иудаизма и христианства, острые моменты их взаимосвязи или взаимное сходство, которое периодически будут отрицать, допускать и отстаивать множество мыслителей и художников более позднего времени. По моему глубокому убеждению, Иуда являет собой пример переменчивого отношения к иудео-христианству, как до того, так и после того, как различные авторитеты возвели стены ортодоксальности, разделившие христианство и иудаизм, противопоставленные друг другу. [17] В трактате «Граница» Даниэль Боярин убедительно доказывает, что «иудаизм не является и не являлся, начиная с раннехристианской эпохи, «религией», если понимать ее как ортодоксию, по отношению к которой гетеродоксальные взгляды, или даже просто странные мнения, делали человека аутсайдером» (Boyarin: Border Lines,
Еврей, как и Иисус, Иуда стремился превзойти своего учителя, но он также взаимодействовал и сотрудничал с храмовыми священниками, которым Иисус бросил вызов. Противоречивые сведения об Иуде, его неясное отношение к Иисусу и странное поведение, которое можно толковать неоднозначно, привлекают писателей и художников вплоть до сегодняшнего дня. Вскрыть происхождение, корни Иуды, причины его включения в сюжет драмы Страстей Господних — значит обрисовать истоки тех вероисповеданий, которые мы сегодня называем иудаизмом и христианством. Действительно, образ Иуды был активно использован в целях отделения иудаизма от формировавшегося христианства. Именно из-за использования его в качестве «орудия», средства для достижения тех или иных задач, равно как и из-за изобилия белых пятен и противоречий, пробелов и парадоксов в его евангельской «биографии», множество мыслителей и деятелей культуры беспрестанно обращали свои взоры на Иуду, предлагая свои трактовки его образа и свои версии развития драмы Страстей Господних. За 20 столетий миру был явлен целый сонм на удивление разнообразных концепций подобного характера.
Противопоставляющая нынешнее пренебрежение к Иуде или замешательство, в которое он приводит современных исследователей, и его важное прошлое, книга «Иуда: предатель или жертва» была написана не для того, чтобы развенчать или искоренить, либо, напротив, оправдать антисемитские идеологические концепции, эксплуатирующие фигуру Иуды. Моей главной целью было исследовать, что же в действительности означает гипнотическая притягательность этой фигуры в ракурсе иудейско-христианских традиций и их взаимодействия. И я надеюсь, что мне удастся показать, что «перевоплощения» Иуды Искариота отражали изменения во взаимоотношениях между иудаизмом и христианством в тот или иной период истории, а также менявшееся отношение западных европейцев к плоти, крови и деньгам; жадности, лицемерию и предательству; самоубийству и раскаянию; дружбе, гомосексуальности и проявлению божественной природы. Даже в своем самом простейшем толковании история предательства Иуды неизменно поднимает вопрос о зле. Почему люди совершают неправедные, злые поступки? Почему всеведущий и всемогущий Бог допускает, чтобы свершались аморальные преступления? И если злодейства чинятся с соизволения или даже по промыслу Бога, должны ли люди-исполнители нести за них ответственность? Могут ли они, и более того, следует ли им верить в такого Бога? Эти важные вопросы — центральные аспекты проблемы свободы воли и предопределенности, доверия и веры. Не удивительно, что к ним постоянно возвращались мыслители и деятели культуры, не только в прошлом, но и в конце XX — начале XXI вв., и не только в высоком искусстве, но и в его популярных, массовых формах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: