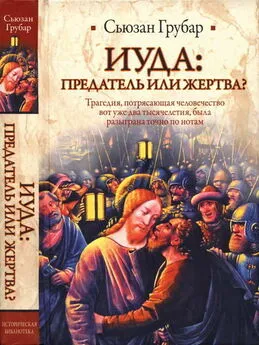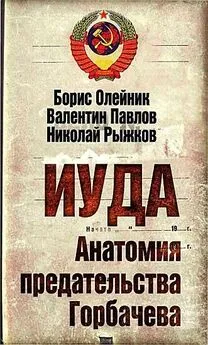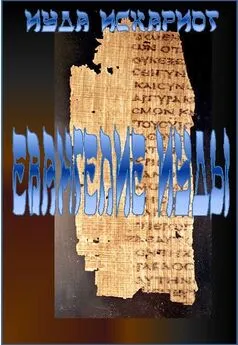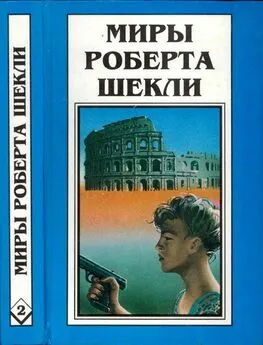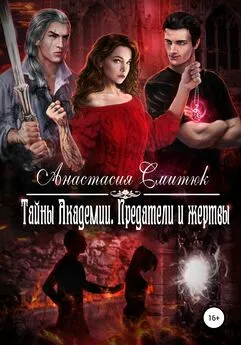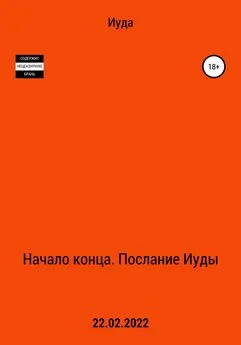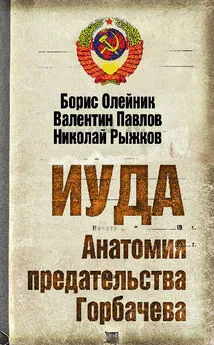Сьюзан Грубар - Иуда: предатель или жертва?
- Название:Иуда: предатель или жертва?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:97S-5-17-072459-8 (АСТ), 978-5-271-33614-0(Астрель)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сьюзан Грубар - Иуда: предатель или жертва? краткое содержание
Данная биография прослеживает восприятие Иуды со времени его появления на страницах Нового Завета до интерпретации его образа в современном кинематографе и художественной литературе. Образ Иуды всегда приковывал к себе внимание теологов и деятелей культуры, побуждая их предпринимать все новые и новые попытки постичь его характер. Данная книга — мета-биография, своего рода антология многочисленных биографий двенадцатого апостола.
Исследование эволюции этого образа позволяет раскрыть процесс зарождения христианства в недрах иудаизма и его последующее отделение от него, а также то значение, которое имеет общее наследие двух религий для христиан всех конфессий и иудеев из разных стран.
Иуда: предатель или жертва? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот основной вопрос, который возникает в контексте историчности: означает ли тот факт, что Иуда «носит имя иудейского народа» то, что история о нем была измышлена как антисемитский миф. А именно такого мнения придерживается Хайам Маккоби (ix). Маккоби считает, что история о борьбе между Иисусом и «иудеями, как иудиным народом» позволила христианам полностью отделить христианство от иудаизма. [22] Маккоби утверждает, что «вся история предательства была измышлена не ранее чем через 30 лет после смерти Иисуса» (Maccoby, 25). В книге «От Иисуса ко Христу» Пола Фредриксен соглашается, что «целью повествователей Драмы Страстей Христовых» было противопоставить Рим и христианство иудеям (Fredriksen, 105): «созданный евангелистами образ Иисуса, постоянно преследуемого и подвергающегося нападкам со стороны враждебных фарисеев, в большей мере отражал те условия, в которых жили они сами, нежели время, на которое пришлось служение Иисуса в Палестине» (Fredriksen, 106).
Следуя Маккоби, Джон Шелби Спонг совсем недавно высказал предположение о том, что идея об Иуде возникла через несколько десятилетий после смерти Иисуса, когда ранние христиане пытались заручиться расположением и поддержкой римлян, перекладывая вину за распятие на иудейские власти. Или же предателя породила фабула повествования, нуждавшегося в сюжете о предательстве, коль скоро, согласно Фрэнку Кермоду, «есть основания полагать, что на самом деле никакого Иуды не было» (Frank Kermode, 94)? [23] Кермод предполагает, что «в самый ранний период» Иуда «не участвовал в сцене Тайной Вечери. Он был включен в нее позднее, когда ему отвели роль предателя и он стал той движущей силой Драмы, благодаря которой за первым актом действа последовал второй» (keimode, 84).
При всей кажущейся правдоподобности таких предположений не следует спешить делать однозначные выводы о том, что Иуда явился всего лишь стереотипом иудея, «плодом стратегии выживания», созданным ради получения Церковью поддержки у неевреев-язычников, или придуманным, второстепенным персонажем, включение которого в повествование было продиктовано логикой сюжета. Отсутствие Иуды или небрежение им в самых ранних источниках не может служить бесспорным доказательством того, что этот персонаж — целиком и полностью вымышленный.
Не следует также относиться к вопросу об историчности или вымышленности Иуды как к несущественному. Хотя Иуда играет второстепенную роль в Драме Страстей Господних, едва ли эта роль маловажная. Самые последние слова, сказанные Иисусом своим ученикам перед смертью, связаны с двенадцатым апостолом: «Встаньте, пойдем: вот приблизился предающий меня» (Марк 14: 42, Матфей 26:46). «Для того, чтобы мир был спасен, — поясняет один из персонажей романа Никоса Казандзакиса «Христос, распятый вновь» (1948), — Иуда необходим, более необходим, чем любой иной Апостол» (25). То же подразумевает и Карл Барт, когда говорит, что «Иуда делает то, что Сам Господь хочет, чтобы свершилось. Он, а не Пилат, является исполнителем Нового Завета» (502). Современный автор Марио Брелих убеждает нас, что без двенадцатого апостола не существовало бы ни Евангелий, ни христианства. Учитывая те «огромные выгоды», которыми в результате для всех нас обернулись действия Иуды, «мы все являемся соучастниками этого Преступления из преступлений», — доказывает он, усматривая в этом определенный парадокс: «Единственный человек в мире и в истории, ничего не выигравший от его совершения или, точнее говоря, выигравший бы гораздо больше, не совершай он его, без сомнения, — Иуда Искариот!» (218). Среди исследователей, изучающих роль и задачи Иуды, царит даже еще большее расхождение во мнениях относительно его вымышленной или исторической природы, поступков и изречений, чем среди тех, что изучают деяния и учение Иисуса.
В последнее время ученые выработали несколько критериев для использования религиозных документов в качестве исторических источников, и ряд этих принципов может помочь в поиске реально жившего Иуды. На этом пути неизбежны свои подводные камни, но тем не менее такой подход позволяет подвести историческую основу для трактовки этого персонажа и его деяний, при том что одновременно открывает широкий простор для толкования мифического Иуды, претерпевающего в Евангелиях и более поздних сочинениях на удивление разнообразные метаморфозы. Вот эти разработанные историками критерии, с помощью которых мы можем удостовериться в законности древних свидетельств об Иуде.
Во-первых, самые ранние источники вызывают больше доверия, нежели более поздние. Во-вторых, вероятную достоверность ряда текстов подтверждают многочисленные свидетельства независимых информаторов. В-третьих, следует учитывать правдоподобность контекста в целом (при возможности исключить анахронизмы). В-четвертых, с точки зрения достоверности, наибольшую ценность представляют собой источники с наименее выраженной теологической мотивацией: противоречивые или витиеватые свидетельства (в изложении лиц нейтральных, не являющихся рьяными поборниками или проповедниками иудаизма или христианства) могут содержать интересные и достоверные факты именно в силу своей непредсказуемости или противоречивости. [24] В «Иисусе» Эрман обсуждает эти критерии в присущей ему лаконичной, но яркой манере (Ehrman, 87—95).
Библеисты склонны доверять подобным источникам при оценке исторической достоверности Евангелий — ведь все новозаветные предания были написаны на греческом языке анонимными авторами, которые не были свидетелями пересказываемых им событий и которые создавали свои Евангелия спустя 35-65 лет после того, как они случились. Учитывая это, большинство исследователей опираются на ныне принятую хронологизацию четырех Евангелий, отводя первенство в написании Марку. Если Иисус умер около 30 г. н.э. и если Евангелие от Марка было написано в середине 60-х гг. или в начале 70-х гг., в чем сходятся большинство ученых, то оно предваряет Евангелия от Матфея и Луки, созданные в 80-е гг., и Евангелие от Иоанна 90-х гг. [25] Большинство ученых ныне сходятся во мнении, что Евангелие от Марка было создано в 68—70 гг. н.э., Евангелие от Матфея — в 80—85 гг. н.э., Евангелие от Луки было написано в 80—85 гг. н.э. (а его «Деяния святых апостолов» в 100 г. н.э.), а Евангелие от Иоанна — в 90—95 гг. н.э. Я благодарна всем лингвистам, историкам, теологам и литературным комментаторам за богатый кладезь материалов по евангельской тематике. Подобно им, я называю Марка, Матфея, Луку и Иоанна авторами Евангелий, хотя это продиктовано исключительно удобством подачи излагаемого материала. Первые три Евангелия называются «Синоптическими», и их принято отделять от последнего Евангелия. Едва ли стоит оговаривать, что в последующей главе моей книге я тщательно исследую разночтения, обнаруживаемые в четырех Евангелиях, но касающиеся только Иуды.
Добавления, привнесенные авторами всех последующих Евангелий, выявляют их единодушие или разногласия по тем или иным вопросам.
Интервал:
Закладка: