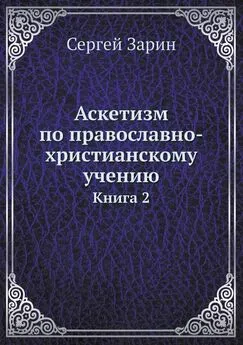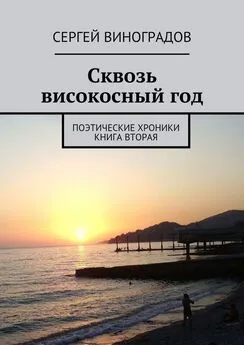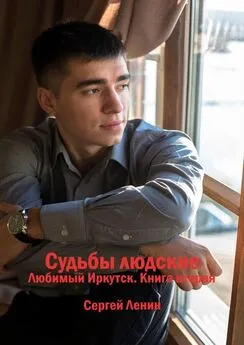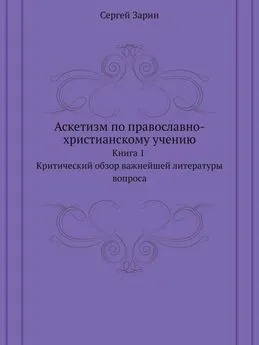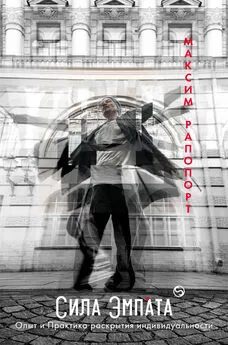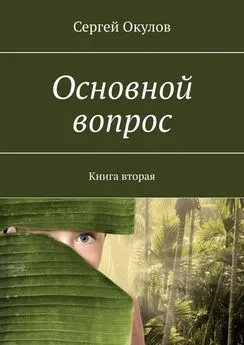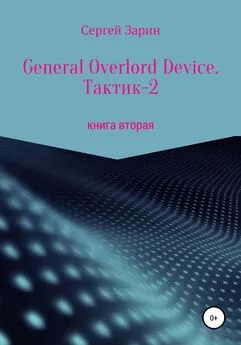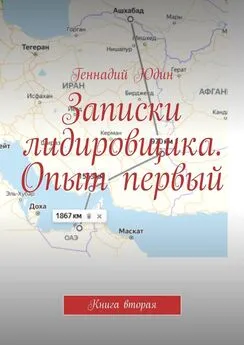Сергей Зарин - Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса
- Название:Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография В. Ф. Киршбаума
- Год:1907
- Город:С.-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Зарин - Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса краткое содержание
Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса.
Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но пусть человек способен действовать для другого Все же допущение и этой мысли еще не обеспечивает бесспорности положения, что человек может действовать бескорыстно, не эгоистически. Даже и действуя для другого, человек может испытывать приятное состояние самоудовлетворения своею деятельностью, которая, т. обр., также не может быть названа в строгом смысле альтруистической, бескорыстной. В таком духе рассуждает, напр., Спенсер. По его словам, «то состояние духа, которым сопровождается альтрустическое действие, – будет ли это состояние получено сознательным или бессознательным образом, – всегда представляет собой приятное состояние, а потому должно быть присчитано к общей сумме удовольствий, которые могут быть получаемы индивидуумом, и, в этом смысле, не может быть ничем иным, как эгоистическим состоянием» ( Спенсер. Основания науки о нравственности. Перев. с английского. СПб. 1880, стр. 267).
Прежде всего фактически неверно и требует существенных ограничений то слишком широкое обобщение и решительное утверждение Спенсера что состояние духа, которым сопровождается альтруистическое действие, сознательное или бессознательное, « всегда представляет собой приятное состояние». Но почему же в таком случае мы наблюдаем вообще мало альтруистов даже в обыденном, житейском смысле этого слова? Обычно люди любят только любящих их [2527], и такой альтруизм, действительно, может сопровождаться – и сопровождается – приятным состоянием. Но заповедь Христова, призывающая любить своих врагов, благословлять проклинающих, благотворить ненавидящим и молиться за обижающих и гонителей [2528], – не только до Христа Спасителя, но и после Него – всегда казалась и была трудно исполнимой, не отвечающей обычным позывам и наклонностям человеческой природы. Очевидно, что то «приятное состояние», о котором говорит Спенсер, не обладает такой силой притягательности, чтобы побудить людей неуклонно следовать принципу альтруизма, осуществлять деятельность, направленную ко благу других людей Спенсер, очевидно, в данном случае разумеет благоприятное состояние « совести », но оно в начале нравственного развития заявляет о себе слишком слабо и только по мере значительных успехов нравственного развития проявляется заметнее, переживается интенсивнее и ощутительнее. Уже отсюда можно видеть, что это «приятное состояние» является следствием альтруистической деятельности, но не целью её.
В основе всех рассуждений Спенсера лежит та бесспорная мысль, что всякая деятельность человека, в том числе и альтруистическая, служа проявлением личной жизнедеятельности, исходя от индивидуального сознания и самосознания, не может быть безразличной для самого человека. Нравственно–совершенная деятельность служит необходимым условием и действительным целесообразным средством для достижения истинно человеческого блага, истинного счастья. «Человек не есть машина, движимая каким–то нравственным механизмом и равнодушная к тому, что вырабатывается этим движением» ( Юркевич. Из науки о человеческом духе. Труд. Киевск. Дух. Акад. 1860, кн. IV, стр. 504). Конечно, одобряющий голос совести, чувства внутреннего мира, нравственного удовлетворения свидетельствуют, что альтруистическая деятельность благотворна и благодетельна и для самого человека. Но в каком отношении? В идеально нормативном, но не в эмпирическом, – в последнем отношении, по крайней мере, далеко не всегда. Известно, что не розами, а шипами усеян путь бескорыстных альтруистов, идеальных тружеников. Утверждать, что все же они действуют по эгоистическим мотивам, так как они испытывают и переживают, благодаря своей деятельности, «приятные» состояния совести, – очень рискованно, – прямо ненаучно. Если уже говорить о нравственном удовлетворении, то существо и свойства его таковы, что оно осуществляется и испытывается только людьми бескорыстными, забывающими о себе. Кто же совершает альтруистическую деятельность или какой бы то ни было подвиг для себя , тот и «получает свою награду» (ср. Mф. VI, 2. 5) – в чем угодно, но только не в нравственном удовлетворении. В проявлениях порядка нормативно нравственного, сколько бы мы их ни разлагали на элементы эгоистические, всегда останется нечто, не сводимое к этим последним, нечто свое особенное, специфическое, не однородное с первыми. Спенсера, как и других мыслителей, вводит в заблуждение то, что человек во всякой деятельности, не исключая и альтруистической, остается личностью , субъектом и в этом смысле центром своей деятельности, которая так или иначе в свою очередь сама воздействует на нравственное благосостояние личности, для которой и не может оставаться безразличной. В этом смысле всякая деятельность всякой личности , обладающей самосознанием, эгоистична, поскольку исходит из внутреннего центра, имеет в основе личное «я», которое, как духовная сущность, монада, – не может быть уничтожена никакой силой, никаким способом.
Отсюда выходит, что альтруизм в известном смысле, действительно, как бы не мыслим без эгоизма, не отделим от него; эти два момента должны вступать в известное взаимоотношение, как–либо совмещаться в нераздельном единстве личной индивидуальной, жизнедеятельности.
На этот вопрос – в указанном смысле – обратил внимание А. С. Хомяков и представил попытку его решения, к рассмотрению которой мы теперь и переходим.
По словам Хомякова, любовь обыкновенно или противополагается эгоизму, как началу ей безусловно противоположному, решительно исключающему ее, или сводится к эгоизму, как началу, имеющему в жизни человека первенствующее значение, по отношению к которому любовь рассматривается лишь, как особая форма его проявления. По Хомякову , обе эти постановки вопроса неверны. Источник эгоизма – в инстинкте самосохранения, необходимо присущем всякому индивидууму, как именно таковому. Вот почему эгоизм, как и всякая прирожденная человеку и тесно связанная с его природою способность, взятая в известных пределах, точнее, – в известной форме своего проявления, имеет законное право на существование и фактически неустраним. Хомяков ссылается в доказательство своей мысли на то, что даже Христос Спаситель заповедует возлюбить ближнего своего, как самого себя (Mф. XXII, 39), а равно отмечает и тот факт, что христианство признает бесспорным то положение, что «никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее» (Ефес. V. 29). Ясно, что эти два начала – альтруистическое и эгоистическое – не стоят друг к другу в отношении полного антагонизма; они, действительно, и находят свое примирение в законе христианской любви. Формулу этого примирения можно выразить так: начало альтруистическое, воспринимая в себя начало эгоистическое , видоизменяет , ассимилирует его по своим законам. Личность, как бы отрекаясь от самой себя, высшее удовлетворение своим потребностям, своим стремлениям, свое благо, свое счастье, смысл и интерес своей жизни находит в благе другого лица, своего ближнего (Ср. проф. В. З. Завитневич. Алексей Степанович Хомяков, т. I. кн. II. (Киев 1902), стр. 942–943).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: