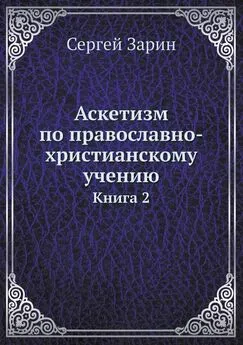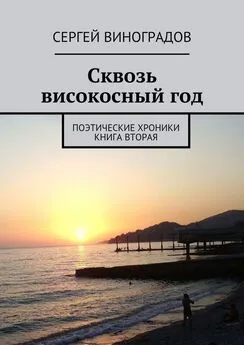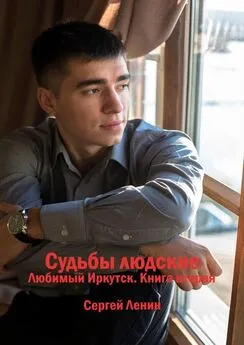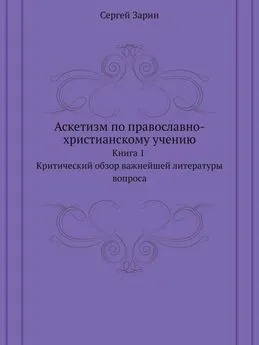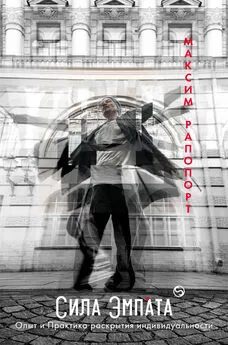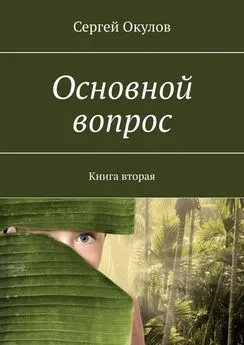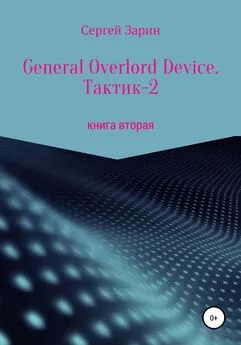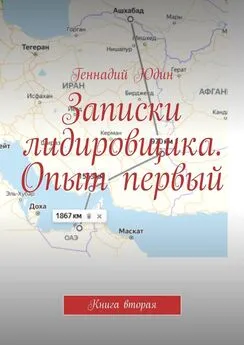Сергей Зарин - Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса
- Название:Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография В. Ф. Киршбаума
- Год:1907
- Город:С.-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Зарин - Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса краткое содержание
Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса.
Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По словам преосвящ. Феофана, «нелюбовь к страстности, ненависть, неприязнь» «и есть военная духовная сила и одна заменяет всю рать» [2685].
«Это – самое спасительное средство к прогнанию греха» [2686]. И это собственно потому, что «страсти» «суть сердечные движения» [2687]в том смысле, что только благоприятствующее греховным «приражениям» настроение «сердца», сочувствие им обеспечивает развитие и господство их в душе человека, в результате чего и является собственно «страсть», явление враждебное нормативному религиозно–нравственному предназначению [2688]человека.
Отсюда, если в деле положительного раскрытия религиозно – нравственного совершенствования прежде всего и преимущественно важно то, чтобы «все принять сердцем, все согреть в нем, вкусить, усвоить, лелеять» [2689], то для успешного осуществления отрицательной стороны аскетизма необходимо хранить «преимущественно сердце»: не давать «доходить, возникающим движениям до чувства» [2690].
С этой точки зрения уясняется учение препод. Макария Е. о «сердце», как основном источнике и живом роднике всего – как доброго, так и дурного – в религиозно–нравственной жизни человека. По его словам, «сердце» (ἡ καρδία) является как бы «сосудом», где сосредоточены «все сокровищницы порока», но, с другой стороны, «там и Бог, там и ангелы, там жизнь и царство, там свет и апостолы, там сокровищницы благодати» [2691]. Вообще «сердце», являясь принадлежностью «умной сущности» (ἡ νοερὰ οὐσία), говоря метафорически, служит «мастерскою правды и неправды» (τὸ ἐργαστήριον τῆς δικαιοσύνης καὶ ἀδικίας) [2692]. Вот почему по мысли св. отца именно «сердце» является источником благодатного оживления всей природы человека. «Когда благодать овладеет пажитями сердца, то царствует над всеми членами и помыслами; ибо там „ум“ (ὁ νοῦς), и все помыслы души и её надежда. Поэтому благодать и проходит (чрез сердце) во все члены тела» (εἰς ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματος) [2693], во всю природу человека, «так как душа соплетена (с сердцем) и соединена» [2694]). В частности и в особенности, охарактеризованные выше основные аскетические добродетели – ревность и терпение – возникают, развиваются и усовершенствуются именно в зависимости главным образом от влияний сердца [2695], существенной особенностью которого является «теплота» [2696]. В общем итоге получается тот вывод, что центром подвижнического совершенствования, главным его условием служит нормальное положение «ума» (νοῦς, πνεῦμα) в его отношении собственно к «сердцу», их взаимное должное отношение. Это последнее определяется сущностью, с одной стороны, «ума», а с другой – «сердца». Если первый есть – по преимуществу – сила созерцательная [2697], а второе обнимает собою наиболее глубокие индивидуальные переживания, то их взаимные отношения естественно должны выражаться контролем – постоянным и неослабным – «разума» над «сердцем», так чтобы первый всегда проникал в сферу содержания второго, постоянно имел последнее в виду, сообщая ему должное направление [2698], т. е. предохраняя от «помыслов» дурных и направляя к «помыслам» добрым, поскольку «все благоугождение и служение зависит от помыслов» [2699]). Между тем, «помыслы» возникают внутри – из сердца (ἔνδοθεν ἐκ τῆς καρδίας) [2700]. Осуществление и сохранение охарактеризованного должного отношения «ума», т. е. его самосознания и самонаблюдения, ко всему ходу религиозно–нравственной жизни, имеющему свой источник в глубине человеческого сердца, – в аскетической письменности называется иногда «пребыванием в сердце» (ἐνδημία ἐν τῇ καρδία) [2701]. Сущность его состоит в том, что сознание и внимание заключаются в сердце [2702], держатся у сердца [2703] [2704]. В этом именно смысле, т. е. в смысле характеристики нормального отношения «ума» к «сердцу», изъясняются в аскетической письменности предъявляемые словом Божиим христианину, обязательные для его преуспеяния в христианской жизни требования « внимания » [2705], « бодрственности » [2706]и « трезвения » [2707] [2708]. Различные моменты, отдельные акты «пребывания в сердце» или «внутрь пребывания» [2709]в святоотеческой аскетической письменности обозначаются различными техническими терминами, взятыми большей частью из св. Писания, но получившими в ней специальное истолкование. Из этих терминов наиболее существенное значение имеют следующие: νῆψις [2710], ἐξυπνισμός [2711](и синонимическ.), προσοχὴ [2712]и φυλακή [2713]. Представить более или менее точное и раздельное определение каждого из указанных терминов оказывается делом довольно затруднительным. И это собственно потому, что в аскетической письменности эти термины являются вообще очень мало разграниченными и фиксированными; большей частью они употребляются как синонимы с оттенками недостаточно характерными и рельефными. Особенно это приходится сказать относительно первых двух терминов, – « трезвения » и « бодрственности ».
В св. Писании необходимость и нормативная естественность для христиан обозначаемых данными терминами состояний обосновываются на том, что христиане по своей идее и господствующему настроению – «сыны света и сыны дня», а «не сыны ночи и тьмы» [2714]. Отсюда и их настроение должно быть приноровлено и вполне соответствовать деятельности среди белого дня, не допуская всего того, что свойственно ночной тьме, – особенно же сонливость и нетрезвость. «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью» [2715]. Христианам же свойственны, составляют их специфическую особенность качества диаметрально противоположные – «бодрственность» и «трезвенность» [2716]. Судя по ходу речи, последнее качество включает в себя момент по преимуществу отрицательный – отсутствие опьянения, т. е. свободу от чуждых, ненормальных и неестественных влияний и условий деятельности, между тем как бодрственность прежде всего и главным образом оттеняет момент положительный , полную во всех отношениях пригодность, приспособленность и готовность сил человека к нормальной деятельности. По–видимому, эта именно мысль подтверждается словами Апостола: «мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения» [2717], – где облечение в духовную броню означает, судя по всему, именно бодрственность.
Есть основания полагать, что, напр., св. Василий Вел. разумел под «трезвением» именно устранение ненормальных условий деятельности христианской. Так, по его словам, «подвижник благочестия (ὁ ἀσκήτης τῆς εὐσεβείας) пусть имеет ввиду одно – не вкрался ли как в душу по нерадению (διὰ ῥαθυμίας) грех, не ослабели ли трезвение (ἡ νῆψις) и напряженное стремление ума к Богу» [2718]. Прежде всего должны мы всеми мерами удерживать помысл, установив за ним трезвенный надзор ума (νηφάλιον τὴν τῆς διανοίας ἐπισκοπήν) [2719].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: