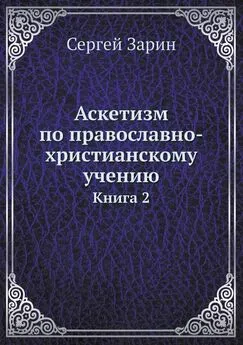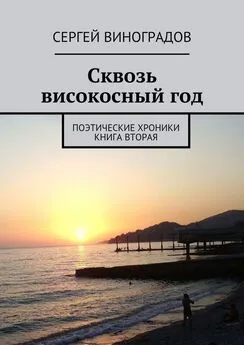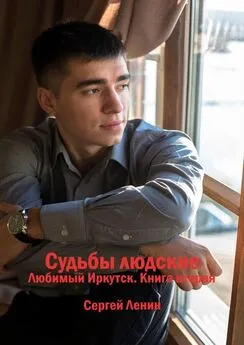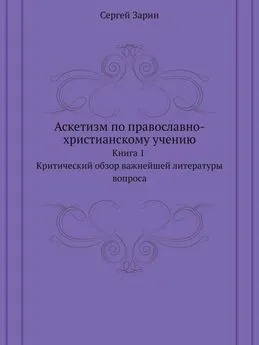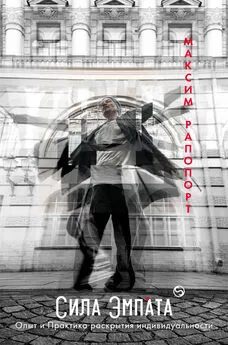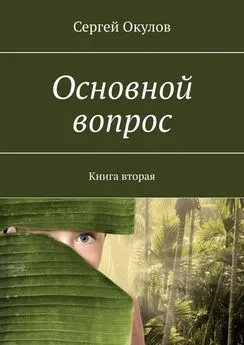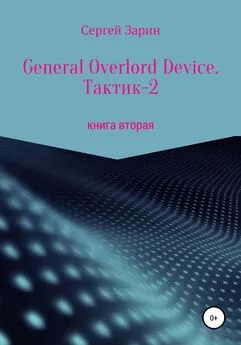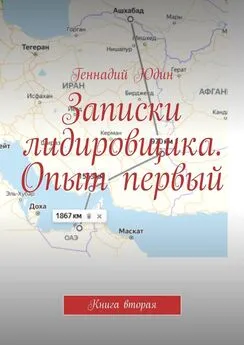Сергей Зарин - Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса
- Название:Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография В. Ф. Киршбаума
- Год:1907
- Город:С.-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Зарин - Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса краткое содержание
Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса.
Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, аскетический принцип «телесного воздержания» [2924]понимается свв. отцами именно в виде и в смысле « умеренности » (συμμετρία) [2925]. Точно установить эту последнюю и правильно соблюдать ее человек может не иначе, как при обязательной: помощи и непременном участии добродетели рассудительности (φρόνησις, σωφροσύνη, discrеtio) [2926] [2927].
Под «умеренностью» в данном смысле разумеется вообще пользование только необходимым , соответственно действительным нуждам тела (ἡ χρῆσις τῇ χρεία σύμμετρος) [2928]. Понимаемое в этом смысле «воздержание» ведет христианина к умению довольствоваться удовлетворением лишь тех желаний, меру которых определяет сама природа [2929], не только не дозволяя себе в этом случае ничего противного природе, но не допуская даже чего–либо, просто только выходящего за её пределы [2930], так как и отсюда уже рождается наклонность ко греху (ἁμαρτητικόν) [2931]. Вот почему от исполнения некоторых желаний христианину иногда полезнее уклоняться. В самом деле, чрез удовлетворение их похоть (ἐπιθυμία) питается и оживляется, тогда как, не получая пищи в беспрепятственном удовлетворении, она иссушается (μαραίνεται) [2932].
Поэтому «прекрасно оставаться в пределах потребности (τοῖς ὅροις τῆς χρείας) и всеми силами стараться не переступать их» [2933].
В случае такого нормального удовлетворения телесных потребностей, элемент чувственного удовольствия, неизбежно являющийся при этом удовлетворении, в виде его результата и сопровождающего момента, – оказывается в своем должном виде и настоящем значении, как момент именно второстепенный, привходящий, зависимый. По словам препод. Нила С. христианин должен заботиться о воздержанном образе жизни (προνοητέον τῆς ἐγκρατεστέρας διαγωγῆς), который характеризуется собственно тем, что, при пользовании теми или другими предметами, мерой и границей этого пользования поставляется действительная нужда в нем, а не удовольствие [2934]. Если же к потребности «часто» (πολλάκις) примешивается и «услаждение» (τὸ ἡδύ), так как скудость все умеет сделать приятным (πάντα οἶδεν ἐφηδύνειν), силой пожелания услаждая (καταγλυκαίνουσα) все, служащее к удовлетворению известной потребности, – то, конечно, и в этом случае не следует отвергать потребность ради того, чтобы избежать последующего за её удовлетворением наслаждения [2935] [2936].
«Умеренность» воздержания нарушается и уничтожается, таким образом, вовсе не тем, что удовлетворение известной потребности не чуждо и элемента удовольствия, чувства приятности, – нет; это происходит именно и только в том случае, когда в христианине начинает господствовать « увлечение стремлением к приятностям жизни» самим по себе [2937], т. е. когда наслаждения, удовольствия сами по себе являются целью удовлетворения известной потребности, которое собственно ради них предпринимается и осуществляется. В таком случае происходит полное извращение нормального порядка, поскольку чувство «удовольствия», наслаждения получает не принадлежащее ему по существу значение в сознании и жизни человека, – оно является господствующим, в высшей степени интенсивным состоянием, нарушая его самообладание, заправляя всем ходом его жизнедеятельности.
По словам Климента А. «страсть к удовольствию не есть необходимое (οὐκ ἀναγκαῖον τὸ τῆς ἡδονῆς πάθος)». В нормальном своем виде оно бывает только следствием удовлетворения некоторых естественных потребностей (ἐπακολούθημα δὲ χρείας τίσι φυσικαῖς), как, напр., голода, жажды и под. Будучи взято само по себе, в отрешенности от процессов удовлетворения голода, жажды, чувственное удовольствие оказывается ни на что не пригодным (ἐδείχθη ἂν οὐδεμία ἑτέρα χρεία ταύτης). Не представляет оно собой ни деятельности какой–либо, ни склонности, и вообще не составляет какой–либо необходимой части человеческого существа (οὔτε γὰρ ἐνέργεια, οὕτε διάθεσις, οὐδὲ μὴν μέρος τι ἡμέτερον ἡδονή) [2938].
Таким образом, умеренное воздержание направляется безусловно собственно только против страстной преданности удовольствиям, переступающим надлежащую меру, – оно имеет ввиду, следов., только и именно « роскошь » (τρυφή) [2939].
VIII.
«Умеренное» удовлетворение потребности питания. — Учение Св. Писания о нормальном отношении к пище. — Отношение христиан первых веков к различным родам пищи. — Святоотеческое учение о нормальном удовлетворении потребности питания. — Излишество в удовлетворении телесных потребностей и насильственное подавление их одинаково противны «умеренности».
Относясь безусловно отрицательно к «роскоши», « умеренность » столь же решительно предостерегает подвижника и от другой противоположной крайности, – от такого «воздержания», которое идет уже прямо против необходимых потребностей природы. «Как не свойственно любомудрию – переступать пределы потребности и обременять душу излишними и суетными заботами, так безумно и не соответствует „рассудительности“ – отказывать телу в служении необходимым» [2940]. Писание не отнимает ничего данного нам от Бога для потребления (εἰς χρῆσιν), но обуздывать неумеренность (τὴν ἀμετρίαν) и исправлять безрассудство (τὴν ἀλογιστίαν). Так, оно не запрещает ни есть, ни рождать детей, но запрещает пресыщаться (γαστριμαργεῖν), прелюбодействовать и проч. Не запрещает и думать обо всем этом, ибо для того оно и сотворено, но запрещает мыслить страстно (τὸ ἐμπαθῶς νοεῖν) [2941].
В частности, относительно потребности питания св. Писание и свв. Отцы Церкви принципиально допускают полную свободу употребления различных родов пищи, предостерегая только от излишества, так как оно препятствует господству духа над телом, поскольку последнее становится предметом чрезмерной заботливости человека и ведет вообще к перевесу тела над духом, усиливая и укрепляя физиологическую основу «страстей».
По слову Самого Христа Спасителя, «не то, что входит в уста, оскверняет (κοινοῖ) человека; но то, что выходит из уст, оскверняет человека» [2942]. Посылая Своих учеников на проповедь и заповедуя им останавливаться в каком–либо одном, определенном доме на все время пребывания в известной местности, Христос позволяет есть и пить все, что найдется у хозяев этого дома [2943]и что они предложат своим гостям [2944]. Первые христиане «каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога» [2945]. По учению св. Ап. Павла, употребление или воздержание от некоторых родов пищи в те или иные дни [2946]и подобные вопросы для каждого человека в отдельности разрешаются только судом его собственной совести (ἡ συνείδησις) [2947], под руководством высшей стороны его существа – ума (νοῦς) [2948], просвещенного верой [2949]. В этом случае христианин должен «избирать» то, в чем он не может себя укорить [2950]. С указанной точки зрения вопрос о родах пищи и под. разрешается неодинаково. «Иной уверен, что можно есть все, а немощный (ὁ ἀσθενῶν) ест овощи» [2951]. «Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога» [2952]. При таком настроении полнейшей самопреданности Господу то и другое поведение христианина, то и другое отношение его к различным родам пищи в сущности безупречны и, если подлежат суду, то не человеческому, а исключительно Божественному, проникающему в сокровенные намерения, определяющему искренность и глубину религиозно–нравственных отношений того или другого человека ко Христу и вообще оценивающему подлинное достоинство настроения, лежащего в основе всего поведения и, в частности, проявляющегося в том или ином отношении христианина к пище [2953]. Во всяком случае «нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что–либо нечистым, тому нечисто» [2954]. «Пища не приближает нас к Богу: ибо едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» [2955]. Единственное опасение, которое может и должно обязательно влиять на поведение христианина в деле употребления той или иной пищи, касается собственно вопроса, не служит ли «свобода» христианина в отношении пищи «соблазном для немощных» [2956], – только этот вопрос должен всегда озабочивать христианина. Вообще же сознательно нравственное отношение христианина к пище обуславливается собственно отношением его к Богу, как Подателю пищи, Творцу всего находящегося на земле [2957]. В таком случае даже утоление голода и жажды совершается «во славу Божию» [2958]. Отсюда, «всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою» [2959]. Наоборот, безусловное и категорическое «запрещение» некоторых родов пищи является, по Апостолу, одним из решительных признаков «отступления от веры», поскольку таким запрещением узаконяется и вводится неправильное, ложное отношение к Божию творению и к Самому Творцу [2960].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: