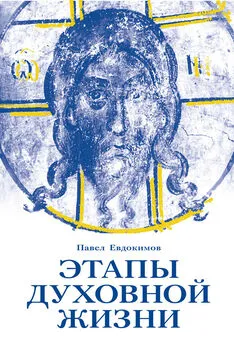Люсьен Реньё - Повседневная жизнь отцов-пустынников IV века
- Название:Повседневная жизнь отцов-пустынников IV века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Молодая гвардия», «Палимпсест»
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03096-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Люсьен Реньё - Повседневная жизнь отцов-пустынников IV века краткое содержание
«Отцы–пустынники и жены непорочны…» — эти строки Пушкина посвящены им, великим христианским подвижникам IV века, монахам–анахоретам Египетской пустыни. Антоний Великий, Павел Фивейский, Макарий Египетский и Макарий Александрийский — это только самые известные имена Отцов пустыни. Что двигало этими людьми? Почему они отказывались от семьи, имущества, привычного образа жизни и уходили в необжитую пустыню? Как удалось им создать культуру, пережившую их на многие века и оказавшую громадное влияние на весь христианский мир? Книга французского исследователя, бенедиктинского монаха отца Люсьена Реньё, посвятившего почти всю свою жизнь изучению духовного наследия египетских Отцов, представляет отнюдь не только познавательный интерес, особенно для отечественного читателя. Знакомство с повседневной жизнью монахов–анахоретов, живших полторы тысячи лет назад, позволяет понять кое‑что и в тысячелетней истории России и русского монашества, истоки которого также восходят к духовному подвигу насельников Египетской пустыни.
Повседневная жизнь отцов-пустынников IV века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тело и душа
Когда Афанасий Александрийский говорит, что Антоний стыдился видеть себя во время еды или сна, то он заимствует эту мысль из «Жизнеописания Плотина», который, по словам Порфирия, «стыдился, что у него есть тело». Но отец монашества часто ел вместе с братьями [504] Житие Антония, гл. 45; Жизнеописание Плотина, 1.
. Авва Даниил сказал: «Насколько тело тучнеет, настолько и душа прозябает; насколько тело прозябает, настолько же и душа процветает» [505] А 186 (=Даниил, 4. Достопамятные сказания. С. 54).
. Но такие заветы могли быть опасными и приводить к излишествам, которые стал порицать уже Антоний: «Некоторые изнуряют тело аскезой, но, лишенные рассудительности, они удаляются от Бога» [506] А 8 (=Антоний, 8. Достопамятные сказания. С. 12).
. «Нужно, — говорил он, — посвящать все свободное время душе скорее, чем телу, уступать телу лишь на малый срок по необходимости, остальное же время отдавать душе, искать пользы для нее, чтобы не увлеклась она телесными удовольствиями, но скорее, чтобы тело стало ее рабом. Именно так и сказано Спасителем» [507] Житие Антония, гл. 45.
. Так же, в духе Евангелия, объясняет это и Палладий в прологе к «Лавсайку»: «Для христиан важен не отказ от продуктов неких или полное воздержание от них, но вера, действенная милосердием» [508] Лавсаик, пролог, 10–14.
.
Языческие философы и аскеты могли налагать на себя пищевые ограничения, чтобы сохранить строгое целомудрие и господствовать над страстями. И христианские монахи имели такие же намерения, но не это было главной целью их постов и воздержания [509] Вопреки мнению А. Руссель о том, что пищевые ограничения, налагаемые на себя отшельниками, были предназначены исключительно для того, чтобы подавлять сексуальные влечения, что приводило, как она пишет, мужчин «от целомудрия к импотенции», а женщин «от девства к фригидности» — так называются две последние главы ее монографии (Porneia. Р. 205–244).
. Эти практики являлись только частью главной цели их подвига — уподобиться Христу и разделить с Ним Его страдания. Мы уже цитировали мысль аввы Паламона: «Господа распяли, а я буду масло есть?!» Мы можем прочесть в апофтегмах и такие слова: «Устреми взор свой на Христа, Который вместо предложенных ему благ выбрал крест». Или: «Нужно много потрудиться, без трудов нельзя наследовать Богу, ибо Он был распят за нас» [510] А 438, А 265.
.
Тексты далеко не всегда прямо говорят нам о тех мотивах, что вдохновляли Отцов пустыни на их подвиги. Но ведь нужно уметь читать между строк, когда, например, мы находим рассказы, подобные этому:
«Случилось, что в праздничную субботу братия ела в церкви Келлий. Когда принесли похлебку, авва Элладий заплакал. Иаков спросил его: “Почему, авва, ты плачешь?” Он ответил ему: “Потому что закончилась радость для души, то есть пост, и пришло время угождения телу”» [511] А 949.
.
Такая простая и непосредственная реакция ясно свидетельствует о состоянии души этого отшельника, находившего в духовной радости поста нечто несравненно большее, чем во всех удовольствиях желудка.
Глава седьмая
ПРЕБЫВАНИЕ В КЕЛЬЕ
Келья в представлении отшельника
Сейчас при слове «келья» немедленно представляется тюремная камера–одиночка, куда заключили преступника, изолировав его от внешнего мира [512] По–французски слово cellule помимо «кельи» означает также «карцер» или «одиночную камеру».
. И в глазах египтян, любящих открытые пространства и общение друг с другом, келья пустынника должна была казаться чем‑то похожим на застенок. Отцы–пустынники хорошо понимали это, но поставили данное представление себе на службу. Авва Аммон советовал одному брату считать себя сродни преступнику, посаженному в тюрьму, который спрашивает себя, когда придет судья, и думает, как ему суметь себя защитить [513] А 113 (=Аммон, 1. Достопамятные сказания. С. 34).
. Иоанн Колов считал, что монах, который пребывает в келье с постоянной мыслью о присутствии Господа, исполняет слова Христа: «В темнице был и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 36) [514] А 342 (=Иоанн Колов, 25. Достопамятные сказания. С. 81).
. Но в отличие от преступника, заключенного в тюрьму против своей воли, отшельник заключает себя в келью в пустыне добровольно, желая поскорее обрести Христа. Именно по этой причине он живет в ней столько, сколько в состоянии прожить. Как‑то Палладий пожаловался авве Макарию, что его сильно мучают помыслы встать и уйти из кельи. Старец ему ответил: «Скажи помыслу своему: Ради Христа стерегу я стены» [515] Лавсаик, 18, 29.
. Только здесь жизнь казалась удобной и уютной. Во время гонений одного пустынника подвергали пыткам: его сажали на железный стул, раскаленный добела. В конце концов его освободили, и, вернувшись в свою келью, он заплакал: «Горе мне, ибо вот, вернули меня к добру от зла!» [516] N 469.
Как мы видим, Отцы пустыни не тешили себя иллюзиями. Келья не всегда была «Вавилонской печью, где три отрока нашли Сына Божия и густым облаком, откуда Бог говорил с Моисеем» [517] N 206.
. Монах мог, конечно, «жестоко обжечься в печи» или представлять себя посреди густого облака. Периоды скуки и уныния сменялись часто моментами рвения и духовной радости [518] Иоанн Кассиан. Собеседования, 4, 2–6; 6, 10.
. Однако нужно было всегда пребывать в келье и не терять оптимизм.
Сидение в келье
Основное требование отшельнической жизни было выражено по–гречески словом, одновременно означавшим «остерегаться», «сидеть» и «оставаться в келье». Анахорет часто сидел в келье: когда ел, работал, читал или писал и даже когда спал. В Египте широко распространена поза, когда человек сидит на земле, согнув ноги и положив голову на колени или между колен. На одном изображении похорон фараона мы можем увидеть придворных, которые сидят подобным образом. И такая же поза — для сна или отдыха — была характерна для пахомиан [519] Veilleux A. La vie de saint Pachôme… P. 128, 131и 169. Cp. P. 279, n. 5.
. Обычно, находясь в такой позе, человек не опирался спиной о стену. Авва Феодор получил от Пахомия выговор за то, что позволил себе эту вольность [520] Ibidem. P. 100.
. И сегодня еще копты сидят так в своих церквях, подобно тому, как и мусульмане в мечетях. Опыт показывает, что таким образом можно хорошо выспаться во время длинных коптских богослужений. Однако в IV веке монахи иногда пользовались низкими сиденьями, сделанными из пучка папируса, которые назывались embrimia. Эти сиденья, описанные Иоанном Кассианом, могли служить подушками [521] Иоанн Кассиан. Собеседования, 1, 23.
. Также их использовали для письма. Авва Диоскор, когда был писцом, имел при себе embrimion ’ [522] Ch 236.
.
Интервал:
Закладка: