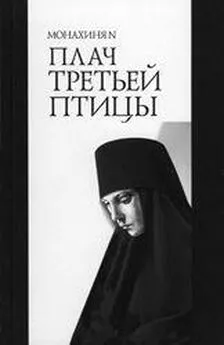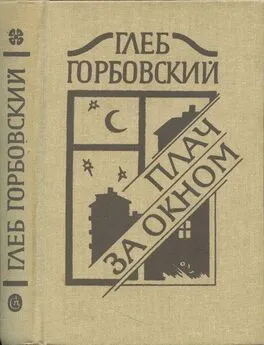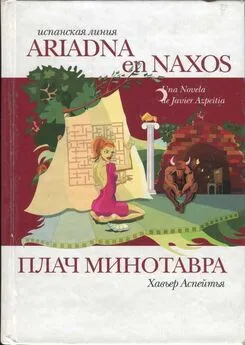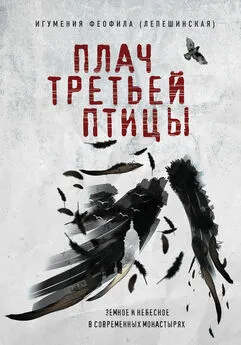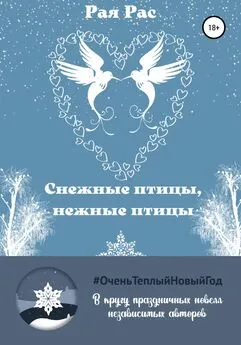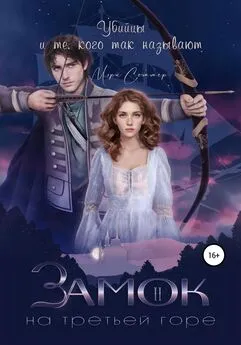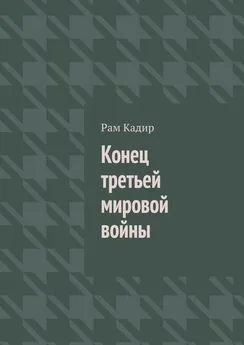Плач третьей птицы
- Название:Плач третьей птицы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Плач третьей птицы краткое содержание
Тон повествования не имеет ничего общего с благочестивой елейностью; автор не боится говорить о плевелах, которых немало в церковном быту, в том числе и в монастырях. Однако главное в книге – любовь к монашеству, во все времена живому, освященному великой целью: следовать за Христом.
Книга представляет интерес для самого широкого читателя, так как всякий, кого привлекает Евангелие, независимо от образа жизни, любит монашество.
Плач третьей птицы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это значит носить детей на руках молитвы [317], любить не всех оптом, а каждого, каков он есть, горячего и теплохладного, умного и не очень, работящего и ленивого, здорового и больного, спокойного и скандального, не выделяя никого; это значит терпеть чужие немощи, сносить досаждения и оскорбления, не смея мстить и гневаться; «ох, дак и пошлют… и пойдешь…» – разводит руками смиренный и рассудительный о. С. ; сказано же: поливающий есть ничто, а всё Бог возращающий [318].
– Начинай! – вымолвил оптинский архимандрит Исаакий (Антимонов), когда взбесившийся рясофорный нахамил ему и уже занес кулак ударить, а о. Моисей, его предшественник, все годы своего правления терпел клеветы и даже на пороге смерти вынужден был писать архиерею объяснение по поводу очередного братского доноса. Святитель Игнатий, знакомый с настоятельством не понаслышке, писал именно ему о некотором удобстве трудной должности: от начальства плюхи, от братии плюхи, от приходящих плюхи; на плюхах спастись можно! [319]
Кто-то справедливо назвал игуменство почетным рабством; избавиться от него конечно несложно: уходили преподобные Сергий Радонежский, Стефан Махрищский, Пафнутий Боровский; знаменитый старец Клеопа, ученик Паисия Величковского, несомненно духовная, глубокая личность, желая уединения и тишины трижды тайком покидал свою обитель; каждый раз неведомым образом удостоверялся в отсутствии на то воли Божией, возвращался и после тяжкой епитимии от архиерея, в виде даже ареста и кандалов, водворялся на настоятельское место в Покровской пустыни.
Чего не испытал преподобный Корнилий Комельский; братия покушались даже убить его; несколько раз кроткий игумен уходил куда глаза глядят, но всегда возвращали, аппелируя даже к великому князю. А преподобного Трифона Вятского недовольные строгостью устава братия изгнали из монастыря в Хлынове (Вятке); тридцать лет он скитался, а перед кончиной пришел к вратам родной обители и испросил дозволения в ней умереть.
Сочувствовать настоятелю не принято; братия то тем то другим недовольны и завидуют сану, не понимая бремени, соединенного с саном [320]; притом судят же по себе, поэтому особенных достоинств в человеке вышестоящем в самом деле не замечают. Савву Освященного, из жития которого вошло в богослужебный обиход выражение земной ангел и небесный человек, что, на руках носили? о нет, требовали от патриарха другого игумена, т.к. «Савва груб». Преподобного Венедикта против воли извлекли из пещеры, где он прожил три года, поставили аввой; ценили его? где там: пытались отравить.
А великий Феодор Студит: высокородный, образованный, с детства воспитанный в Церкви, философ, богослов, сколько терпел от братий, которые, находясь в глубоком сне беспечности , чего только не вытворяли: сплетничали, бранились, дрались врукопашную; воровали одежду, пояса, обувь, писчие перья, орехи; таскали овощи, воюя с огородником; требовали к ужину вино (и авва сдавался!); самовольно меняли послушание; когда хотели, уходили в пустыню, уединялись в затвор, надевали вериги, а после впадали в самые постыдные пороки; по всякому поводу роптали и покидали обитель.
Эпоха предоставляла объективные оправдания: братья-разбойники приходили из мира, раздираемого распрями и кровавыми иконоборческими спорами; но преподобный виною безобразий считал только свои грехи, яко пастыря худого , который не предусмотрел, не предостерег и не предуврачевал немощного. О себе он высказывался без тени начальственного чванства: «моя жизнь проходит в небрежении… я мал и слаб, чада мои, и совершенно не имею сил жить богоугодно» [321]… и, проливая горькие слезы,просил: пожалейте меня! и умирал с печалью на сердце, готовясь держать ответ за свое буйное братство.
Конечно, он был одинок, уже потому что его интеллектуальный и культурный потенциал оставался не востребован в обители; конечно, был одинок в своей феноменальной кротости преподобный Сергий, когда, услышав неприязненные речи братий, среди которых оказался и брат по плоти, даже не зайдя в келью покинул свой монастырь; конечно, был одинок и не понят Оптинский настоятель преподобный Моисей: с ним обращались, по-нынешнему сказать, как с хозяйственником, а всё доброе приписывали старцам, не замечая, что и он один из них; и Бородинскую игумению Марию успокаивал владыка Филарет; одиночество на земле ведет в общество небесное.
Попадают в настоятели и обыкновенные любители командовать, властвовать, утверждаться, украшаясь высотой занимаемого места, и оправдывают крутость своего управления и нрава особенностями эпохи, негодностью контингента, необходимостью железного жезла , а также личной усталостью и нервами.
Один настоятель кстати и некстати, и монастырским братиям, и родителям в воскресной школе цитирует книгу Сирахову: «не помогай грешнику», «не пускай в дом лазутчиков», «выгоняй строящих козни», «кто любит сына, чаще наказывай его», «не играй, не смейся с ребенком», «сокрушай ребра его» – и никто не упрекает его в непоследовательности: исповедуешь христианство, а поступаешь по ветхозаветной морали; таким путем никого не спасешь, но и себе повредишь, ожесточив душу. Лишь то добро, что творится добрым образом, что созвучно жертвенной любви, прощению и снисхождению Христа, никогда никого не смирявшего, не прогнавшего, не унизившего…
Поставленный в настоятели Лавры о. Антоний (Медведев), страшно, до уныния тяготясь новым положением и намереваясь проситься в отставку, обратился за советом к Воронежскому святителю Антонию (Смирницкому). Преосвященный поделился, как и его обременяло архиерейство; в этом смущении он однажды прилег отдохнуть и, едва закрыв глаза, услышал голос: «Ты хочешь проситься на покой? А знаешь ли ты, что такое начальство? Это сраспятие Господу нашему Иисусу Христу, а Он с креста не сошел» [322]. Слезы градом катились из глаз, рассказывал архимандрит Антоний; еще бы, слышал ли он когда что-нибудь более радостно-скорбное, возвышенное, утешительное для верующего сердца… Какое счастье быть распятым близ Спасителя, как был некогда распят блаженный разбойник! [323].
Бессмертный Толстошеев
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»,
Кто скажет: «Идите, люди, за мной,
Я вас научу, как надо!».
А. Галич.Толстошеев, если кто забыл, тот самый тамбовский мещанин, живописец и интриган, который по кончине святого Серафима, спекулируя его именем, преодолев сопротивление местного дворянства, Саровской обители и епархиального начальства, мертвой хваткой вцепился в Дивеево, разорил заветы преподобного, перессорил всех со всеми и устроил смуту, длившуюся без малого тридцать лет и приведшую монастырь в полный упадок. Увлекала его, вероятно, и корысть: он свободно распоряжался золотой рекой пожертвований; но более двигало им, по-видимому, желание руководить, властвовать, которое никак не получалось насытить ни в Сарове, где он долгие годы оставался рядовым послушником, ни в других покинутых им пяти монастырях, где карьера упрямо не складывалась [324].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: