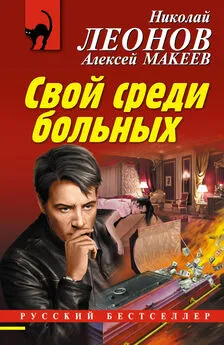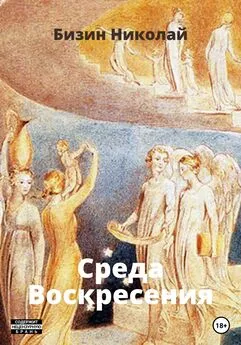Николай Благовещенский - Среди богомольцев
- Название:Среди богомольцев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Благовещенский - Среди богомольцев краткое содержание
В своём произведение Благовещенский описывает жизнь монахов на «Афоне» весьма однобоко, касаясь в основном бытовой стороны жизни и трудностей с которыми они сталкиваются в своём делание. В его записках нет той лёгкости и благоговения, которой есть у Бориса Зайцева в его описание «Афона». У Благовещенского отсутствует романтический настрой, произведение не предназначено для тех читателей, которые искренне верят, что в афонских монастырях на литургии «летают ангелы». Но при всём при этом, книга помогает увидеть быт монахов, их суждение и оценку жизни, убирает ложный ореол романтики связанный с монашеским деланьем.
Надо понимать, что сейчас многое изменилось на Афоне, и в части устройства монастырей, быта, питание. Всё что он описал относиться к его времени, а не к нашему.
Среди богомольцев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
От этих-то непомерных трудов и лишений трудно встретить в киновиях здоровое свежее лицо: все лица какие-то желтые, изнуренные, болезненные. Жалко смотреть на них. И как разительно-быстро замирает и изменяется человек от такой жизни! Придет молодец молодцом, полный сил и здоровья, и вдруг, после нескольких месяцев беспрерывного поста и стояния, он так изменится, что и узнать трудно. Помню: я часто любовался одним молодым парнем поклонником; что за красота была: лицо румяное, грудь богатырская, взгляд смелый с удалью и беспечностью чисто русскою. Дать бы такому молодцу работу, какую, – за троих бы работал; ан нет: – пошел в монахи. Через год я встретил его уже в монашеском платье, с четками и робким болезненным взглядом. Я едва узнал его.
– Ты ли это, Кубаков? – спрашиваю его.
– Не Кубаков, а отец Василий, – ответил тот.
– Помер, значит, наш молодец?
– Помер, чтобы воскреснуть в царствии небесном. Когда в мире жил, нечего греха таить, жить было лучше, а теперь хоть и труднее жизнь, да за то Бога увижу.
Он закашлялся и вздохнул. В разговоре его, впрочем, проглядывало что-то нерешительное, точно он говорил с чужого голоса.
– Зачем ты в монахи пошел? спросил я опять.
– Бог призвал… Значит так на роду было написано.
– Да ведь у тебя сил было много, работать бы мог; у нас и то работников не хватает.
– Найдутся. Да с работой и не спасешься… где в мире спастись!
– Отчего же и не спастись? Миряне не дают таких обетов, как вы: с них меньше и требуется.
Василий посмотрел на меня пристально.
– Не искушай меня, голубчик! мне и то бесы покоя не дают: проговорил он умоляющим голосом и опять закашлялся. На губах его показалась кровь.
– Да ты болен, о. Василий?
– Что же тут худого? значит скоро покончусь, а там шабаш.
К следующей весне он покончился.
И немудрено, что так быстро увядает здесь молодость. Труд громадный, неестественный, недостаток сна, тяжелая пища и вечная тревога души, – всё это огнем пожирает свежие силы и безвременно сводит в могилу. Конечно, не всякая натура скоро сломится от такой жизни. Большинство монахов, особенно греческих, доживает до глубокой старости и, не смотря на всю суровую обстановку, седая борода чаще других встречается на Афоне. Это те счастливые натуры, которые свыкаются с всякими неудобствами жизни.
И так-то вглядишься пристальнее в эту жизнь, сличишь ее с мирскою жизнью, и увидишь тогда, что это уж не жизнь, а какой-то другой мир, оригинальный. Недаром сами отшельники называют себя мертвецами для мира. Здесь и разговоры-то подчас слышатся непривычные для нашего уха: идет оценка целой жизни мирской, будто разговор действительно идет уже за гробом: в царстве мертвых. Говорят подобные разговоры бывают ещё в тюрьмах или в каторге, но там они не имеют такого значение как здесь. Там есть ещё надежда на свободу и новую деятельность; а здесь уже всё покончено с жизнью, и даже, вольно или невольно, проклята она, эта прошлая, порой счастливая жизнь!…
А что же радости афонские? Ведь нет, говорят, такой жизни, в которой нельзя найди ни одной светлой минуты. Есть эти светлые минуты и в общинах афонских. Вот в пасху, например, все веселы, шалят даже как дети. Перед хорошим обедом у некоторых видны улыбки. Перед повечерием иноки собираются за воротами обители, и многие, в ожидании службы, за которой следует сон, тоже шутят и улыбаются. Иной в восторге от какого-нибудь видение другой подсмеивается над удивлением и неловкостью поклонников… Раз, помню, общую радость возбудило в монастыре повествование Северной Пчелы (при мне ее получало начальство в Руссике) о каком-то чуде близь Херсона…
Да нет, впрочем, это всё не радости, а что-то такое странное, чему и название не приищешь. Глядя на подобные радости, все-таки скажешь про себя: Да! Не легко на Афоне достаётся спасение!…
III. ГЛАВНѢЙШІЯ ПОБУЖДЕНIЯ КЪ МОНАШЕСТВУ.
Разные народности соединились на горе Афонской для одной цели. Тут есть и греки, и болгары, сербы, молдаване, русские, грузины, даже выкресты из ту рок и евреев. Вглядываясь в разнонародную массу отшельников, невольно задаешь себе вопрос: что заставляет этих самомучеников променять спокойную семейную жизнь, на такую подвижническую и пустынную?
Конечно, монахи говорят, что тут на первом плане стоит потребность спасения, но под видом этой потребности часто скрывается побуждение обыкновенное, житейское. Иному мирская жизнь до того не красна, что он с удовольствием меняет ее на афонскую, которая не смотря на строгость её обрядового склада, всё таки кажется краше. Другой, с малолетства впал в мистику, озлобился на грешных людей и бежит от них на Афон – спасаться. Третий думает поживиться здесь чем-нибудь, или пожить барином на чужой счет, благо хлеб даровой, а работа хоть и трудная, но привыкнуть к ней можно! Четвертого лень заела, и идет он на Афон отдохнуть да понежиться [12], – и так далее в этом роде. А главное, что побуждает деловой народ покидать мир и постригаться в монашество – это горе и неудачи житейские. Оно естественно: только сильное горе вызывает у человека обращение к уединенной, отшельнической жизни.
Местные жители теряют на Афоне не так много, как выходцы иных земель. Грек на родине; он слышит здесь родной язык, видит свои обычаи, ест свою пшеницу. Притом грек очень хорошо знает, что такое жизнь афонская и готовится к ней ещё в мире; а для русского, например, здесь столько разных лишений, неизвестных ему на родине, что невольно дивишься его самоотвержению. Надо иметь много решимости и религиозной сосредоточенности, чтобы бросить родину, отказаться от всего, чем светла мирская жизнь, и остаться навсегда в такой неприветливой для русского стороне. Но так кажется с первого взгляда, а на самом-то деле эта решимость является у русских очень легко и часто даже бессознательно. Большая часть здешних земляков наших, как я узнал из разговоров с ними, – это разные странники наши, которые заезжают на Афон по пути из Иерусалима на родину; заезжают без всякого желание остаться здесь, а между тем остаются. Не те пресловутые странники, промышляющие своим странничеством на Руси, которые боятся, как бы в самом деле их не заперли куда-нибудь, а простые неопытные мужички да солдатики, суеверные и легковерные, видящие в загробной жизни грозное предзнаменование. Для них Афон – беда, потому что Афон страшен своим впечатлением на подобные натуры.
Говорят, что ещё на пути к Афону, в виду этой горы, большая часть поклонников наших теряет спокойствие и смутно ждёт чего-то чудесного. С этой тревогой души, поклонник робко вступает на берег св. горы. Весело, но строго встречают его здешние отшельники; разговор не тот, что в мире, смирение хозяев полное, но в тоже время они смотрят на мирянина с видимым сожалением, будто говорят ему, что «вот, дескать, ты пропащий человек, а мы спасаемся!» Да и сам он сразу заметит, что здесь дело спасение идет не на шутку, не то, что в мире. Потом наговорят ему про искушение демонские, про разные видения, расскажут несколько чудес, и ходит поклонник сам не свой, не зная что делать с собою. Среди этих впечатлений ему вдруг ясно вспомнится суетная жизнь мирская, в которой нет ничего подобного, и вспомнится эта жизнь в самом непривлекательном свете. Все прошлые дела и даже думы житейские, к которым уже давно пригляделся грешный мир, теперь ему покажутся преступлениями, и вот совесть его начинает заговаривать, а в голове так и рисуется геенна огненная. Плохо приходится поклоннику: страх забирает его не на шутку, а тут ещё бдение…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

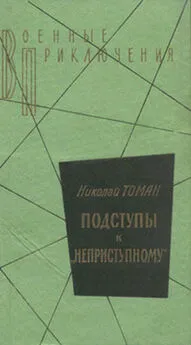
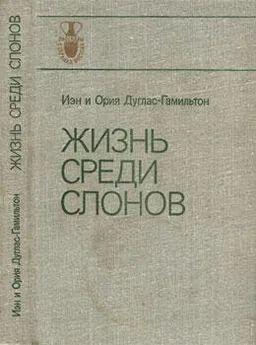
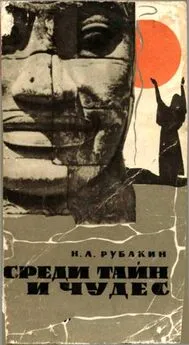
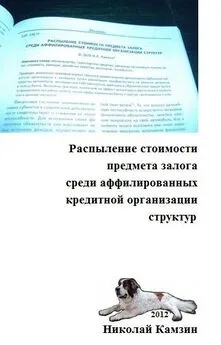
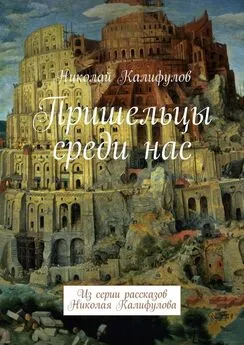
![Николай Степанов - Потерянная среди миров [litres]](/books/1064090/nikolaj-stepanov-poteryannaya-sredi-mirov-litres.webp)