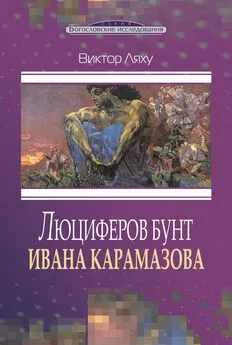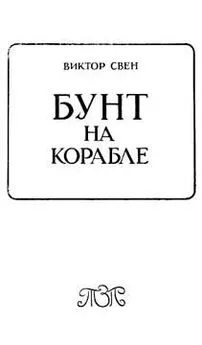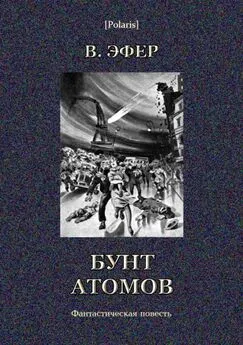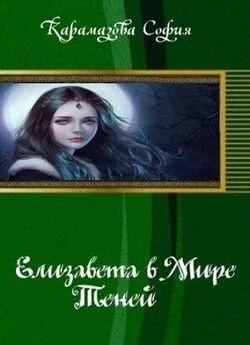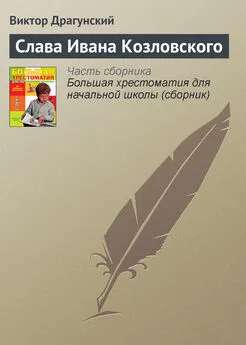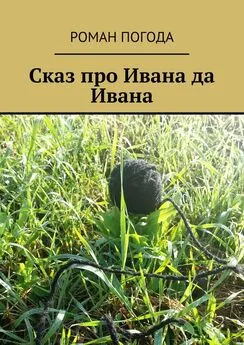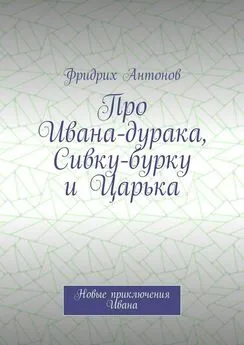Виктор Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова
- Название:Люциферов бунт Ивана Карамазова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ББИ»
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89647-258-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова краткое содержание
Люциферов бунт Ивана Карамазова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Разумеется, ряд подобных иллюстраций можно было бы продолжать и продолжать. Но, думается, и уже предъявленное читателю не выглядит малодостаточным и вполне убеждает в том, что аллюзий, притом библейских именно, в романе не просто много; они встречаются в нем везде и всюду, становясь тем самым системной характеристикой поэтики итогового романа Достоевского. Можно, пожалуй, сказать без всякого преувеличения, что текст «Братьев Карамазовых» аллюзиен тотально.
Тематические параллели
Обращаясь теперь к аллюзиям другого рода, а именно к параллелям тематическим, заметим, что у Достоевского, как и у всякого большого художника, складывается своя «стратегия интертекстуальности» [80] Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или интер-текст в мире текстов . М.: АГАР, 2000. С. 19.
. Для достижения разных своих целей Достоевский использует среди прочих и тематические библейские аллюзии, специфика которых видится нам в их обращенности не столько к вербалике прецедентного текста, сколько к его тематике и проблематике, при всем том, что и вербализованные компоненты могут вполне органично присутствовать в тексте-реципиенте. Важно подчеркнуть при этом, что тематические библейские аллюзии не просто активизируют в сознании читателя некие важные для Достоевского отзвуки и параллели, которые сами по себе могли бы восприниматься кем-то как достаточно или даже слишком привычные, а потому малопродуктивные отсылки к той или иной библейской книге, а потому всего-навсего как привычная дань какой-то формально-риторической традиции. На самом же деле названные параллели не просто подключают художественный мир «Братьев Карамазовых» к идейно-эстетическому контексту Священного Писания, они вводят существенные с точки зрения писателя ветхозаветные или новозаветные темы в текст самого романа как принципиальные смыслообразующие элементы и факторы повествования в нем. Руководствуясь великими «уроками» Библии, вполне определенно вошедшими в его собственное повествование, Достоевский существенно углубляет и расширяет семантику внутритекстовых образных связей «Карамазовых» и совершенно законно ожидает от читателя, что тот сумеет через библейские аллюзии приобщиться и к затекстовым пластам Писания, на фоне или в контексте которых и может состояться искомое углубление в подспудные смыслы романа.
Обратимся, как и в предыдущем разделе, к соответствующим примерам.
Текст «Братьев Карамазовых»:
«Если бы он (Алеша. – В. Л.) порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты (ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни , строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю» (14, 25).
Прецедентный текст (Библия):
«Построим себе город и башню , высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие… И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню]. Посему дано ему имя: Вавилон , ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Быт 11:1, 3–6, 8, 9).
Здесь очевидна отсылка к Книге Бытие. Достоевский обнаруживает в ветхозаветном сюжете о строительстве «города и башни» одну из важнейших, фундаментальных проблем, которая становится безусловной тематической константой в романе «Братья Карамазовы». Любопытно, что Достоевский проводит параллель не между Петербургом и Вавилоном (вспомним «городскую» параллель-оппозицию Лондон-Вавилон, которую проводит писатель, посетив английскую столицу), но между Алешей, его выбором и выбором жителей «земли Сеннаар». Достоевский своеобразно обыгрывает на примере любимого героя одну и ту же текстовую ситуация: Алеша избирает «противоположную всем дорогу», которая должна привести его к бессмертию и, собственно, к тому же стремятся потомки Ноя, которые в противовес Алеше так же бескомпромиссно, но, полагаясь исключительно на свои собственные силы, пытаются достичь бессмертия без Бога, точнее, пытаются обессмертить свое имя («сделаем себе имя»!) строительством башни «высотою до небес» (Быт 11:4).
Тематическая аллюзия наглядно показывает, насколько важна для Достоевского эта межтекстовая параллель и как она углубляет не только смысл конкретного образа, но и смысл и структуру романа в целом. Вавилон как символ человеческого своеволия и гордыни, «символ всего, что противодействует Богу» – лейтмотив романа, который масштабно реализуется затем в ключевой книге «Pro и contra», в поэме о Великом инквизиторе. Всевластный кардинал, герой поэмы Ивана Карамазова, строит свой Вавилон «именно без Бога», и делает это «не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю» (14, 25).
Пророческим взором Достоевский видит, что может наступить страшная эпоха, когда отвергнут будет Христос и восторжествует инквизитор. Поразительно, но художник вкладывает эти парадоксальные слова-предчувствия в уста Инквизитору. Антигерой Достоевского льстиво и лукаво обращается ко Христу, своему пленнику, и пытается как бы навязать и Ему свою логику и сотериологическую доктрину: «Приняв мир и порфиру кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой». Но затем делает поправку «ибо кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках их хлебы». А это уже не Христов путь, для которого «совесть» и «свобода» – понятия священные. «Мы и взяли меч кесаря, – беззастенчиво признается инквизитор, – а взяв его, конечно, отвергли Тебя и пошли за ним . О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией» (14, 235).
Понятно, что библейская «подсветка» усугубляет уверенность Достоевского и вместе с ним читателя в том, какова цена и перспективы любых амбициозных человеческих затей, рожденных без Бога.
Текст «Братьев Карамазовых»:
«На земле же воистину мы как бы блуждаем , и не было бы драгоценного Христова образа пред нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом» (14, 290).
Прецедентный текст (Библия):
«Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас». (Ис 53:6).
Текст «Братьев Карамазовых» (из монолога Великого инквизитора, обращающегося ко Христу):
«Говорят и пророчествуют, что Ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих тайну, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее „гадкое“ тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем перед тобой и скажем: „Суди нас, если можешь и смеешь“» (14, 236, 237).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: