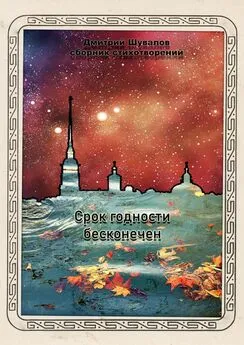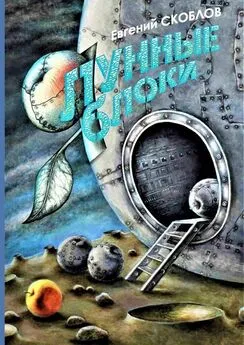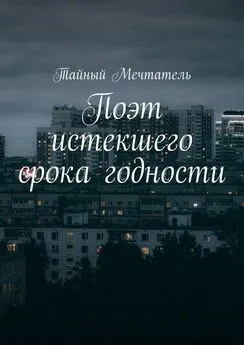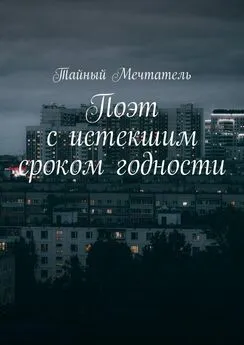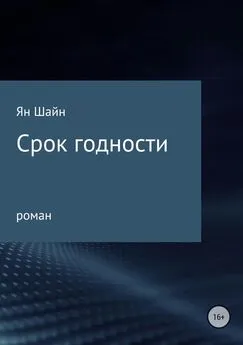Евгения Некрасова - Срок годности. Сборник экологической прозы о человеке и планете
- Название:Срок годности. Сборник экологической прозы о человеке и планете
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-6045598-6-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгения Некрасова - Срок годности. Сборник экологической прозы о человеке и планете краткое содержание
Этот сборник – результат лаборатории экописьма. Ее кураторы и студенты несколько месяцев прислушивались к собственному опыту взаимодействия с природой, изучали существующие тексты об экологии: от Пришвина и Астафьева до Эмили Литрот и Саманты Швеблин, искали свой способ рассказать об экологических процессах. К лаборатории присоединились известные авторки, для которых тема экологии и природы тоже важна: Малин Кивеля (вы прочитаете ее текст в переводе со шведского Лиды Стародубцевой), Полина Барскова, Евгения Некрасова, Татьяна Замировская, Алла Горбунова, Лида Юсупова и другие.
Срок годности. Сборник экологической прозы о человеке и планете - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Новая литература будет говорить о новых нечеловеческих субъектностях. Но каким будет голос этой литературы? Как вообще можно говорить о нечеловеческих субъектностях?
И такой ли уж новый этот вопрос?
На протяжении истории европейской культуры и мысли некоторые группы живых существ, концепты и идеи оказывались по ту сторону человеческого – Другими по отношению к европейцу, который являлся человеком в настоящем смысле слова. Другой оказывался монстром, чужаком, дикарем; важной его чертой являлось то, что он угрожает цивилизованному обществу, его ценностям или самой стабильности рационального человеческого разума. В структуре западной мысли Другому отводится место за пределами того, что считается «нормальным» и «цивилизованным». Но именно в этот основополагающий момент вытеснения Другого за границы субъектности и конституируется суверенитет «Я».
Практика исключения нелюдей, тех, кто получает статус нелюдей, – неотъемлемая часть истории европейской субъектности. Сегодня нам кажется, что граница между человеческим и нечеловеческим, например между человеком и животным, между видами, ясна и однозначна, но история показывает, что эта граница всегда была размытой, что колониализм, расизм, массовое уничтожение людей основаны на постоянном смещении этой границы. Ведь в разные эпохи Другими, нелюдьми, оказывались (и продолжают оказываться) и те, кого маркировали «безумными», и чернокожие, и гомосексуалы, и женщины.
Западная субъектность, зацементировавшись в эпоху Просвещения, оказалась следствием практики исключения, которая базируется на иерархии бинарных оппозиций. Разум противопоставляется чувствам, культура – природе, человек – животному, мужчина – женщине. Первый член этих дихотомий всегда обладает большей ценностью и весом. Получается, что по одну сторону оказывается мужской человеческий разум, утверждающий экспансию культуры и цивилизации, а по другую – все женское, чувственное, животное, дикое, необузданное.
Как следствие, такие явления, как империализм, антропоцентризм, патриархат и колониализм, оказываются связанными между собой практиками исключения Другого и утверждения господства европейской субъектности. Сегодня, решив дать голос нечеловеческой субъектности, нам нужно оставаться настороже, чтобы не воспроизвести при этом старый дискурс доминирования.
Итак, вопрос о том, как говорить о нечеловеческой субъектности, остается центральным для новой литературы.
Как дать говорить Другому, не подавляя его, не иерархиезируя наши с ним отношения, не редуцируя его к одномерному типажу, отдавая отчет тому, что мы либо причиняли, либо продолжаем причинять ему вред (в том числе с помощью письма)? Это вопросы этики и морали.
Как правило, европейская философия старалась базировать этику на твердых принципах разума и рациональности. Именно через беспристрастный, нейтральный и логический анализ можно понять, как мы должны действовать и оценивать свои действия. Чтобы конструировать ценности и нормы, нужно оторваться от живой реальности, смотреть на нее немного издалека и – руководствоваться правилами логики. В основе этого этоса лежат многие классические фигуры европейской философии.
Рене Декарт, как известно, считал животных просто «механизмами» или «автоматами», то есть сложными устройствами без субъективного опыта. Для него они были такими же вещами, как, например, менее сложные механизмы вроде часов с кукушкой. Декарт приходил к такому выводу, потому что считал мысли и разум атрибутами нематериальной души; а поскольку только люди обладают нематериальной душой, то и субъективный опыт может обнаружится только у них. Животные же, рассуждал Декарт, не выказывают никаких признаков того, что в них обитают разумные души: они не умеют говорить и философствовать, и поэтому (насколько мы можем судить) у них нет ни души, ни разума. Декарт говорил, что животные лишь механические объекты, а не живые существа.
Такой эпистемологический скептицизм, конечно, подвергался критике (и даже осмеянию) не только в философии, но и в литературе. Через сто лет после того, как Декарт опубликовал «Рассуждение о методе», Джонатан Свифт отправил своего литературного героя в путешествие на остров Лапуту, жители которого хоть и вооружены знанием математики, астрономии и новейших технологий, но беспомощны, когда дело касается практического применения своего разума. В стране гуигнгнмов Гулливер знакомится с разумными и добродетельными лошадьми, далеко превосходящими людей в умственном и культурном развитии. Таким образом Свифт критикует и насмехается над двумя важными идеями Просвещения: превосходства разума и уникальности человека в его обладании этим разумом. Животные Свифта ниспровергают и лишают легитимности саму «гуманность» и «человечность» как просвещенческую концепцию.
К концу эпохи Просвещения Иммануил Кант пытался синтезировать рационализм и эмпиризм. И все же для Канта единственный путь к морали лежал через пользование автономным разумом. Эмоции, такие как сочувствие или эмпатия, даже если они иногда кажутся добродетельными, неуместны.
Рационализм таит в себе много опасностей. Рационализм игнорирует жизненный опыт Другого, его субъективность, пряча ценность этой субъективности за утилитарным расчетом, что в конечном счете приводит к формам систематического и институционализированного насилия. Распространенным утверждением является то, что холокост, вместе с его механической и бюрократической эффективностью, оказался продуктом современности, которая превращает рационализацию и моральное безразличие в основное руководство к действию.
Диссоциация и некоторое оцепенение чувств, моральная апатия присутствуют и в современной культуре. Они и приводят к утилитарному отношению к субъективности Другого, к объективации Другого, рационализируя тем самым насилие и отношения подчинения.
Философии этического рационализма можно противопоставить философию этического сентиментализма, одним из представителей которого является британский мыслитель XVIII века Дэвид Юм. Юм, хотя и был фигурой просвещенческой, утверждал, что именно эмоции помогают нам воспринимать что-то как «хорошее» или «плохое» и именно они составляют основу добродетели. По мнению Юма, этическое знание берет свое начало не в априорном и рациональном мышлении с его логикой и непредвзятостью, а из впечатлений и ощущений, из эмпирического взаимодействия с миром, из нашей способности со- и переживать.
Если вернуться к письму и литературе, то первым шагом борьбы против отчужденного отношения к Другому должно стать такое письмо, которое фундируется на процессе эмоционального подключения к Другому и эмпатии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


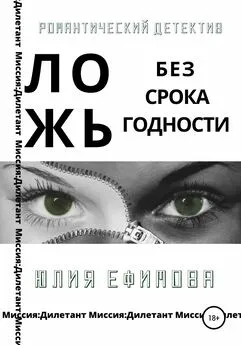
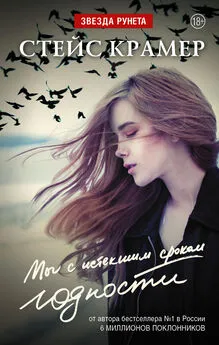
![Anna Jones - По истечении срока годности – забыть [СИ]](/books/1149886/anna-jones-po-istechenii-sroka-godnosti-zabyt-s.webp)