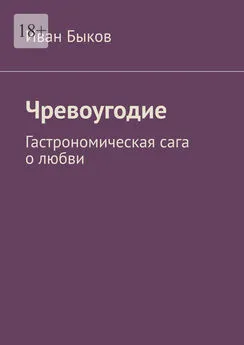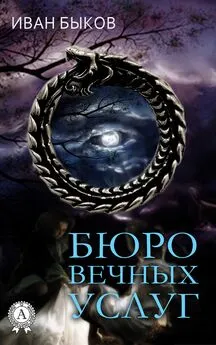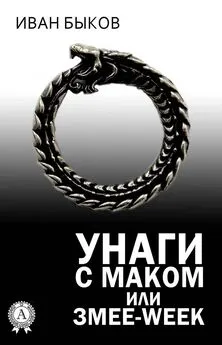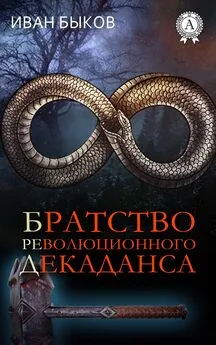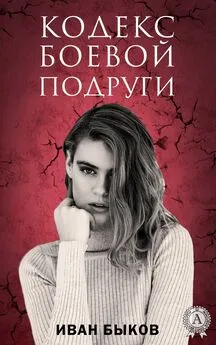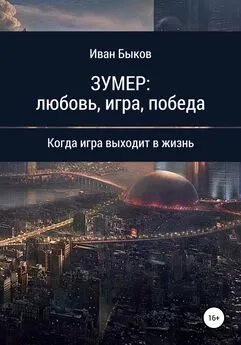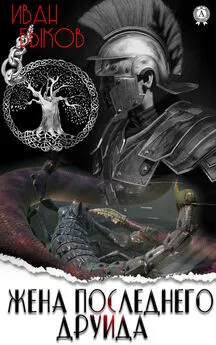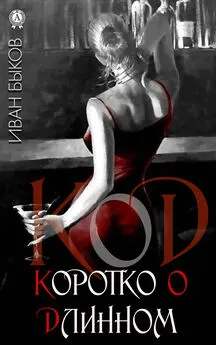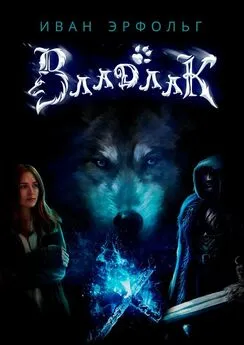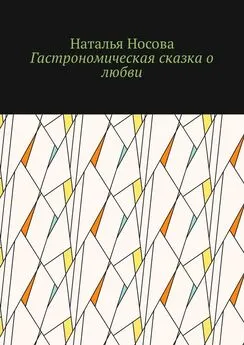Иван Быков - Чревоугодие. Гастрономическая сага о любви
- Название:Чревоугодие. Гастрономическая сага о любви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005670373
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Быков - Чревоугодие. Гастрономическая сага о любви краткое содержание
Чревоугодие. Гастрономическая сага о любви - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Достигнув пенсионного возраста в десять лет, перечитав к тому времени всех доступных Стругацких, Азимова, Шекли, Воннегута, Кларка, Брэдбери – в общем, всю фантастику, до которой мог дотянуться, – он решил, что пора и в собирательстве оставить детские увлечения и вплотную заняться книгами.
К тому времени его отец покинул неприбыльную, стодвадцатирублевую, как у подавляющего большинства советских граждан, работу конструктора и перешел в спортивный клуб «Январец» – развивать новый для Союза вид спорта – большой теннис. Поменял кульман, карандаш и ластик на теннисные мячи и ракетку.
Ходить на теннис к отцу он не хотел. Он уже серьезно занимался велоспортом, пулевой стрельбой, успевал в кружки судомоделирования, фотографов, игры на гитаре и юных натуралистов при зоопарке. Все это осваивал параллельно, времени не хватало катастрофически. Бывало, что ехал в трамвае в зоопарк, но вспоминал, что перепутал дни и должен быть на фотокружке со своей верной «Сменой».
Отец придумал убедительный, безотказный способ увлечь сына большим теннисом: за каждую тренировку сын получал рубль. Поскольку отец по долгу службы находился на кортах с раннего утра до позднего вечера, возможность найти свободное от школы и кружков подходящее временное окошко все-таки была. Если пять раз в неделю сходить на тренировки, то к субботе можно было накопить пять рублей. А за пять рублей можно было купить стоящую книгу: «Путешествия Гулливера» Свифта, «Пеппи Длинныйчулок» Линдгрен, «Винни-пуха» Милна или «Маугли» Киплинга.
Все это он уже читал – по библиотекам или с рук, но теперь мог получать книги в личное пользование, ставить на полки, перечитывать, перелистывать, делать пометки или просто пересматривать картинки. Ни с чем не сравнимое чувство. Теперь можно было заняться коллекционированием книг – букинистикой.
Покупные книги были не новыми, пользованными, затертыми, зачитанными до заломов и дыр. Но это были его книги. Страсть эту он реализовал уже в зрелом возрасте, выделив в доме целую комнату под личную библиотеку. Как тут не вспомнить знаменитое булгаковское: «Я один живу и работаю в семи комнатах, – ответил Филипп Филиппович, – и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку».
И в новой, уже взрослой, библиотеке не было у него золоченых фолиантов, коллекционных изданий, древних кожаных переплетов и средневековых раритетов. А были обычные книги, в основном советской эпохи, когда еще печатали системно, сборниками сочинений и томами в сериях, и не бестселлеры, а толковую литературу.
Стояли здесь антологии философов – зарубежных и отечественных. Как долго он собирал эти сто тридцать восемь томов! За какие неразумные деньги приобретал последние, самые редкие экземпляры! Стояли книги по истории – Отечества и мировой. Собраны были самые нужные словари, энциклопедии, учебные и научные материалы. Была «Библиотека античной литературы», три десятка и еще один том. Стояла «Всемирная литература» во всей красе двух сотен томов. Теснились подписные издания.
Много полок занимала – как же без нее? – любимая фантастика. Советская, зарубежная, антологии, сборники рассказов по годам. Был многотомный «Мир приключений» – знаменитый «МП» в мягком переплете. Целую стену он отвел под литературу детскую – старые книги, последние выжившие из его детства и купленная позже «Мировая литература для детей», полсотни томов. Читал сам, читали дети, будут читать и внуки. И пусть некоторые экземпляры стоили довольно дорого, но это была уверенная середина, никаких забористых артефактов, от цены на которые захватывает дух.
Второй и третьей его страстью были боны и монеты. Их он собирал давно, с самого детства. Начинал, как все бонисты и нумизматы, с малого – с экзотики. Цветные фантики, затертые медяки чужих стран, в которых «не был никогда», как поет Бутусов. Он любовно раскладывал их по кляссерам и альбомам, располагал по странам – в алфавитном порядке, перебирал, пересматривал и переиначивал расклад при каждой очередной покупке.
Новые финансовые возможности позволили ему выбрать другую тему, даже несколько. Он сосредоточил собирательство на серебре Средневековой Европы, на отечественных бонах и монетах (тут вне времени), а также на нотгельдах – денежных суррогатах Австрии, Германии, части Польши периода депрессии 1914—1923 годов. За пару десятилетий собрал вполне достойную коллекцию.
Многократно ему предлагали расширить сферу интересов, обратить внимание на античный период, на золото и серебро того времени, но отдавать несколько тысяч долларов за каждую монету он не хотел, не видел смысла. Соотношение коллекционного удовольствия и затраченных средств не было гармоничным, равновесным. Он предпочитал уверенную середину.
Вот так и в вине. Сколько раз предлагали ему поучаствовать в аукционах, приобрести эксклюзивные экземпляры, проявить интерес к великим винам Бургундии (Grands vins de Bordeaux), коих всего пять: «Chateau Margaux» («Шато Мрго»), «Chateau Latour» («Шато Латур»), «Chateau Lafite-Rothschild» («Шато Лафит-Ротшильд»), «Chateau Mouton-Rothschild» («Шато Мутон-Ротшильд»), «Chateau Haut-Brion» («Шато О-Брион»), отведать вина из «Chateau Petrus» («Шато Петрюс») или же продегустировать супертосканские вина.
Когда он видел «Ротшильд» в названии вина или, изучив историю бренда, обнаруживал эту фамилию где-то рядом, он улыбался. Эта фамилия давала, как сказали бы аграрии, сам-два или сам-три финансовой урожайности. Где были Ротшильды, «красные щиты», там стоимость продукта вырастала вдвое-втрое. Чего только стоит одна история «покупки» Ротшильдами виноградников у императорской российской семьи Романовых!
В 1868 году, когда трон Российской империи занимал Александр II Николаевич, в аккурат посередине между поражением в Крымской войне и победой в очередной и, надеемся, последней Русско-турецкой войне, барон Джеймс де Ротшильд выступил к изрядно поиздержавшейся державе с «выгодным» предложением.
Романовы в то время владели более чем семьюдесятью гектарами виноградников Лафит (что на гасконском означает «склон холма») в бордосском округе Медок. Содержание хозяйства прибыли не приносило, одни затраты. Виноделие в России тогда не было поставлено на промышленную ногу, не было еще «раскручено». Лев Сергеевич Голицын даже не приступал еще к своим винным изысканиям в Крыму, российские виноделы не могли составить европейским достойную конкуренцию.
Барон предложил избавить Романовых от убыточного хозяйства, да не просто так, а за деньги. Все было сделано «честно», с открытых торгов. Четыре с половиной миллиона франков были выданы Джеймсом де Ротшильдом царскому правительству… взаймы, под проценты. И с обязательным условием: ежегодно закупать для России значительные объемы лафита по фиксированной цене 6250 франков за бочку в 900 литров. Неслыханная тогда сумма за винный баррель. И деньги в выгодное дело вложили, и ссуду под проценты надежному заемщику дали, и рынок сбыта по завышенной цене для будущей продукции обеспечили. Везде в выигрыше. Браво, Джеймс!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: