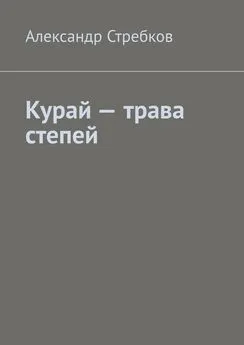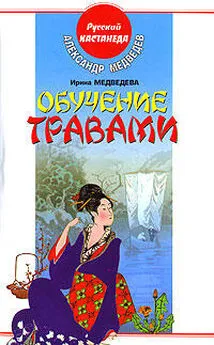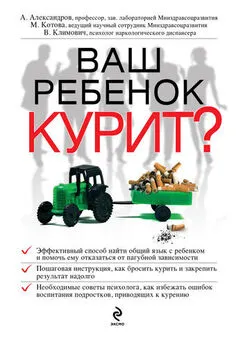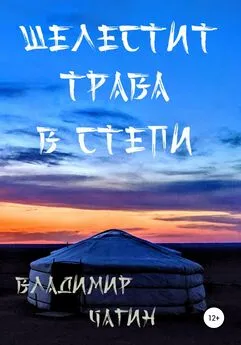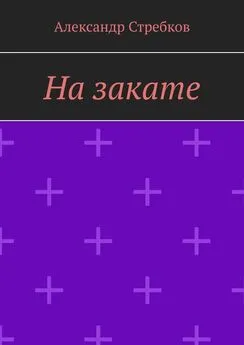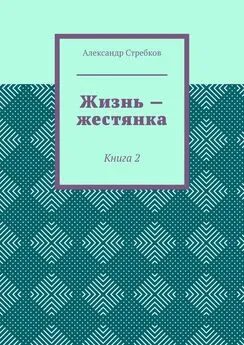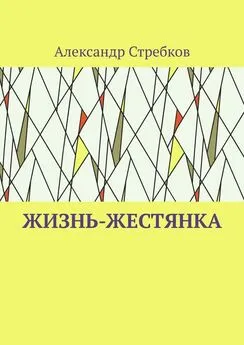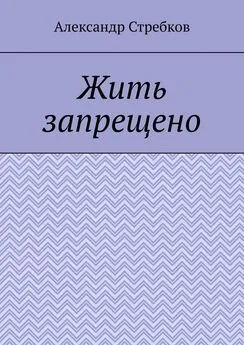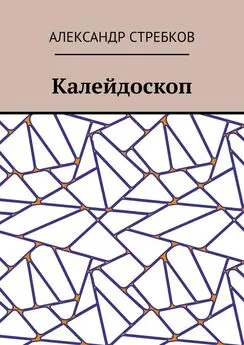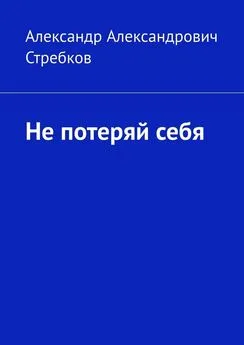Александр Стребков - Курай – трава степей
- Название:Курай – трава степей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005331052
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Стребков - Курай – трава степей краткое содержание
Курай – трава степей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– В отца она – всё от Квачёвых переняла, нет в ней ничего от рода Бережных. Что поделаешь, раз такая уродилась, на всё во- ля господня.
Немного помолчав, обратила взор на колыбель, сказала:
– Пока ещё тепло вы окрестите в церкви малютку. Назовите Наденькой как я и сказала. Она ведь, твоей Луша последней на- деждой была обрести семью.
В коридоре послышался скрип открываемой двери и в хату вошёл Виктор Алексеевич.
– У нас тут гости, – сказал он, – здравствуйте, Любовь Фи- липповна.
– Здравствуй, зятёк, вот пришла поздравить вас с новорож- дённой и самой взглянуть на малютку.
– Чего там смотреть, ещё сглазите.
– Не переживай, я не глазливая, и не прав ты потому как по- смотреть есть на что; человека сразу видно с самого рождения с первого дня его. Славная дивчина будет – сердцем чую, да и приметы есть кое-какие. Судьба, скорее всего, будет у неё не- лёгкой, с характером будет, но добрая.
Они ещё долго обсуждали надвигавшиеся перемены, нако- нец, тёща собралась уходить.
– Ладно, зятёк, пойду я, а то Саша один там дома: просился со мной, но я не взяла, после посмотрит свою племянницу, пусть она чуть подрастёт.
Всё это время, пока тёща разговаривала с зятем, Лукерья не вступала в разговоры; она взяла дочь на руки, села за печкой на табуретку и кормила ребёнка грудью. Любовь Филипповна ушла, за ней на улицу вышел и Виктор, тихонько притворив за собой дверь. Сентябрь был по-летнему тёплый, и казалось, что осень с её холодными ветрами и слякотью ещё придёт не скоро, потому как сама погода не давала верить в то, что скоро наступит ненастье. Человеку всегда присуще верить во что-то хорошее, светлое, доб- рое. Любовь Филипповна придя домой, управилась по хозяйству. Войдя в дом, покормила сына, после чего вышла во двор, взгляну- ла на вечернее небо, которое уже усыпалось звёздами, как ска- терть самобранка и уселась под летней печью, которая стояла во дворе решила немного отдохнуть. Глубоко вздохнув, ещё раз под- няла голову к верху, устремив взгляд на небо вслух, сказала:
– Боже, какой чудный вечер! В такой день и умирать греш- но, ибо господа обидишь, – далее размышляя о себе, подумала:
«Вот я и стала бабушкой во второй раз. Кажется, вчера ещё была молодой, а уже сорок восемь исполнилось. Когда жила… и жила ли вообще? Наверное, когда Сашка жив был тогда и жила. Эти последние восемь лет как в тумане; без него и свет не мил, если бы не сыночек так и жить-то не к чему. Молодость… – словно во сне всё это было».
Вернувшись мысленно к внучке, сделала для себя новое от- крытие: «В нашем роду – в этом-то годе получается третья де- вочка и все в один год. У брата Ивана – Катенька, у сестры Тать- яны – Валя, у дочери моей – Наденька. Вот оно как! А я старая дура и не туда только сейчас дошло, – далее перебирая в памяти ближнюю родню Бережных, сделала ещё одно открытие, – до этого ведь были хлопцы и тоже трое: мой Саша в шестнадцатом родился, у брата Ивана в семнадцатом – Ванечка и у сестры Татьяны в двадцать пятом тоже Ваня. Получается вначале трое
ребятишек потом три девочки притом ещё все в один год. А му- жики – так одни Иваны да Александры, будто сговорились…».
В ту минуту, когда Любовь Филипповна думала об этом, она не могла ещё знать, что эта закономерность в её роду сохранит- ся и далее – на годы: в сорок седьмом году вновь появятся на свет три девочки. У её племянника Ивана – Людмила; у племян- ниц Таисии и Екатерины – Наталья и Светлана. А год пятьдесят четвёртый в очередной раз порадует новой тройней: у внучки Надежды – сын Коля, у племянника Ивана – дочь Оля, у Таисии – сын Саша.
Поистине, говорят, что Бог троицу любит. Сохранилась ли и далее сия традиция с уверенностью мы сказать не можем, по- тому, как исследований таких никто не предпринимал.
А в то время, невзирая на то, кто где родился и сколько их, по стране набирала темпы компания всеобщей коллективиза- ции, которая для народа была новой удавкой на шее. Постепен- но она докатывалась до всех уголков захолустья и глухомани, встречая как внутренний протест населения, так и открытый – вооружённый. Ситуация везде была разной: порой кардинально противоположной друг другу и иногда в рядом расположенных населённых пунктах. Это, прежде всего, зависело от местной власти – «сельских советов» и партийно-комсомольского актива. Одни местные активисты лезли из кожи вон, лишь бы показать свою преданность самой власти зачастую придумав то, чего нет на самом деле, быстренько отчитываясь наверх о проделанной успешно работе, тем самым столбили себе дорогу на будущее ходить в начальничках. Другие вожаки коммунистической идеи наоборот пассивно относились и не торопились: «Пусть всё как- нибудь само устаканится, а мы потом посмотрим, что из этого выйдет, идея идеей, а нам жить с народом…».
Как и в начале двадцатых годов на улицах и в советах поя- вились вооружённые люди; сами активисты тоже нацепили на- ганы и маузеры. Из загашников извлекли те, у кого оружие было припрятано, а вместе с ним достали и подопревшие с залыси-
нами кожанки, а тем, кто не сохранил – столь ценный атрибут власти пришлось срочно смотаться в ближайший город и при- обрести на барахолке. Всем этим – кожанкой и наганом показы- вая народу: «Кто перед тобой, может, само – ЧЕКА» – словно подчёркивали и напоминали простому люду, что церемониться с ними не будут. Умным людям порой казалось, что время по- шло вспять: на улице вовсе не конец тридцатых, а по-прежнему тот двадцать первый. О событиях на верхнем и среднем Дону, где шли уже полномасштабные бои, спустя время слухи дошли и до Глебовки: «Что ни говорила бы власть, а Дон – то прародина наша! – говорили жители села. – А Родина не может быть не права!..» – шептались тихо по углам, обсуждали лёжа в кровати с женой перед сном, а съездив к куму или к родственникам в ближайшую деревню, пытались там разузнать что-нибудь. Ни- кто толком конкретно ничего сказать не мог, ответ искали все – что делать? Ясно было одно – народу это не нужно и он крайне недоволен. С Дона вести приходили скупые и порой противоре- чивые, иному то, что рассказывали, очень хотелось всем серд- цем верить, другие слухи сразу в корне отвергались. Власть на всех углах трезвонила одну и ту же песню: «Кулачьё, недобитые белогвардейцы, контрреволюционеры и появился новый тер- мин – враги народа». Оказывается, всю жизнь жил народ, а того и не знал, что сам себе он враг да ещё и подлый, который так и норовит по-тихому сам себя жизни лишить или голодом замо- рить. В одночасье казаки Дона превратились в белобандитов, а тот, кто их голодом морил и в Сибирь ссылал, забирая имущест- во, а по сути – грабил и в итоге в затылок стрелял где-нибудь на краю оврага – вдруг праведниками стали и героями. За всеми этими переживаниями не заметили, как и зима пришла.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: