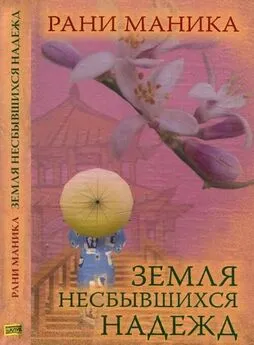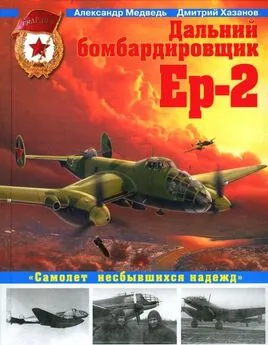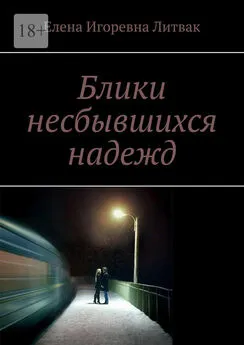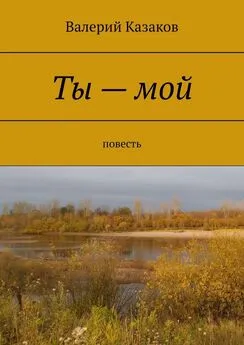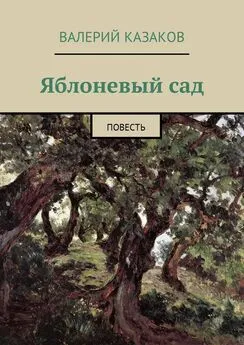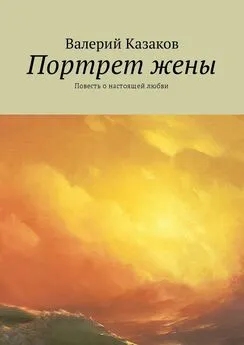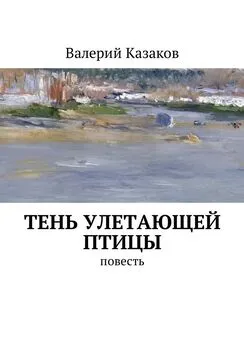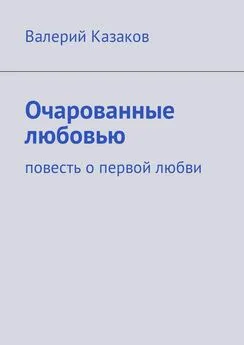Валерий Казаков - Осень несбывшихся надежд. Повесть
- Название:Осень несбывшихся надежд. Повесть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449872203
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Казаков - Осень несбывшихся надежд. Повесть краткое содержание
Осень несбывшихся надежд. Повесть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С Мироном Зориным брат дружил давно. С тех самых пор, как Мирон устроил в Красновятске первый митинг в поддержку будущего президента Ельцина, как раз накануне выборов в девяносто шестом. Тогда они вместе развешивали плакаты на улицах города, выступали в местном Доме культуры с призывными речами, агитировали на площадях. Предвыборная программа Бориса Ельцина казалась моему брату самой простой и самой содержательной одновременно, а сам кандидат представлялся человеком целеустремленным, неуступчивым и решительным. Собрания демократов – реформаторов благодаря усилиям Мирона сделались людными, на них стала появляться молодежь, откуда-то приезжали певцы и музыканты. После каждого такого собрания стали устраиваться богатые фуршеты и танцы. Это понравилось незамужним женщинам. В скором времени ветреных женщин на пропагандистских сборищах социал-демократов стало большинство. Нарядная толпа женщин послужила приманкой для мужчин. В общем, через какое-то время мне показалось, что я должна туда заглянуть хотя бы однажды. Меня заинтересовал Мирон Зорин.
Он был человек, который постоянно о чем-то говорит, что-то кому-то доказывает, объясняет. Он не знает, что такое минута задумчивости. Когда его слушаешь – может показаться, что он прекрасно разбирается в людях, интуитивно чувствует правду, легко находит в шелухе случайностей рациональное зерно. Пожалуй, я бы слукавила, если бы сказала, что этому человеку я полностью доверяю.
Признаюсь честно, форма ведения собраний у социал-демократов мне понравилась. Вернее она не утомляла. На этих собраниях никто не призывал разношерстную публику вести себя потише, никто не требовал внимания к себе, не взывал к совести, не обещал невозможного. Просто каждый выступающий говорил то, что думал, и это было важнее всего. А, самое главное, это было интересно.
Как я уже говорила, после каждого такого собрания активистами социал-демократического движения устраивался небольшой банкет. Всем присутствующим раздавались пластмассовые стаканчика с сухим вином и крохотные бутерброды. С опустошенным на половину стаканом, приятно было постоять среди своих друзей, ведя разговор на какую-нибудь отвлеченную тему, а при желании наполнить его вновь, только уже за свой счет. Многие именно так и делали, причем довольно часто, но пьяных почему-то не было видно. Бросалось в глаза, что обыкновенные люди в культурном обществе старались и вести себя соответственно. Никто не прибегал к русскому «эсперанто», никто не говорил пошлостей, все старались быть учтивыми и предупредительными, что для людей в глубокой провинции весьма нехарактерно.
Много раз в течение вечера ко мне подходил брат и с улыбкой на лице спрашивал: «Ну, как тебе тут? Нравится»? «Нравится», – честно отвечала я.
На одном из таких собраний я познакомилась со своим будущим женихом Генрихом Гуревичем. Чем он меня покорил, сейчас я сказать не могу, но я сразу отметила в нем особого рода достоинство, то достоинство, которого не было у Вадима. К тому же он был прекрасно одет, чисто выбрит, надушен каким-то незнакомым мне, но приятным одеколоном. На нем был светло-серый костюм, отливающий на сгибах синевой, белая рубашка, напоминающая новогодний снег и широкий галстук с расплывчато-зелеными полосками наискосок. Он просто и раскованно держался среди женщин, заинтересованно разговаривал с мужчинами, проявляя свое расположение не улыбкой, а только характерными (после тридцати) морщинками возле глаз, которые эту улыбку как бы подразумевали. Со стороны могло показаться, что он всё время улыбается. На самом же деле он просто чувствовал свободно.
К Генриху меня подвел мой брат. Вернее мы подошли вместе. Саша что-то хотел узнать у него и заодно решил познакомить меня с интересным человеком.
Мать Генриха была из поволжских немцев, и это обстоятельство, конечно, сыграло свою роль. Саше всегда хотелось, чтобы у нас в семье не так резко, как у других наших знакомых проявлялось смешение кровей. До этого я проводила время с Вадимом Соколовым, и брат на наши с Вадимом отношения смотрел без особой симпатии. Вадим был красив, добродушен, мил и покладист, но ему не хватало образованности. Он закончил какой-то лесной техникум в Пищалье, работал в местном лесхозе инженером лесопатологом и считал, что этого вполне достаточно для спокойной жизни в вятской глуши. Он предпочитал довольствоваться малым, лишь бы не суетиться, не беспокоиться, и не быть обузой для других. Иногда мне казалось, что за свою томительно длинную молодость, которую он всегда вспоминал с улыбкой, Вадим не успел прочесть ни одной книги. Он путешествовал, рыбачил, ходил на охоту, попадал в различные, иногда довольно занимательные истории – вот и всё. Даже нынешние свои знания о внешнем мире он черпал, кажется, исключительно из газет и телепередач. В общем, после знакомства с Генрихом, после того, как мне стало ясно, что это не просто очередное увлечение, с Вадимом я решила порвать.
Но как это часто бывает в пору первой любви, размолвка наша затянулась. Я и сейчас не знаю толком, правильно ли я поступила тогда. Не покарает ли меня за это Бог. Ведь бедный Вадим в своих чувствах ко мне был так искренен, так доверчив. Он, по-видимому, надеялся на длительные и серьёзные отношения, строил планы. Когда я попыталась объяснить ему, что неожиданно полюбила другого, он едва не поколотил меня от отчаянья. Он и тут был искренен до конца. И в таком положении всё-таки попытался меня понять, а позднее и простить. Очень просил еще раз подумать, до конца разобраться со своими чувствами и не рубить с плеча.
Это произошло в самом начале лета, мы стояли на лунной ночной улице и плакали. Нам казалось, что мы расстаемся навсегда. Улица, где он жил была какая-то слишком узкая и длинная, кончавшаяся оврагом, а другом своим концом выходила на пустырь перед недостроенным зданием школы, где весной пышно цвели низкорослые сирени. Когда я проходила мимо этих сиреней в конце мая после дождя, и они вдруг неожиданно вспыхивали, освещенные в прореху между туч косыми лучами, меня всегда охватывал какой-то детский восторг. Я зачарованно останавливалась и смотрела то на тёмное небо в бахроме туч, то на золотисто-желтые кусты сирени. Сердце мое начинало радостно биться, мне казалось, что где-то рядом, по всем приметам, могла бы быть помещичья усадьба, наподобие тех, которые любил описывать в своих рассказах Иван Бунин. Там в глубине сада мог бы возвышаться белый каменный дом, до половины увитый цветущим плюшем. В этой усадьбе мог бы жить какой-нибудь отставной капитан с тёмными усами – любитель орловских рысаков.
С цветущими сиренями были связаны мои воспоминания о первых поцелуях с Вадимом, о первых бессвязно-ласковых словах, дополненных несмелыми объятиями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
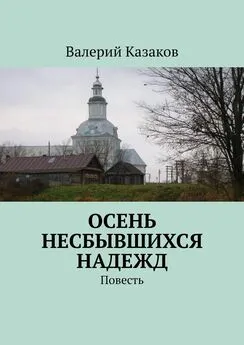
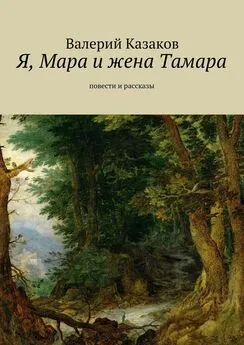
![Валерий Казаков - Асфальт и тени [Рассказы, повесть]](/books/1099011/valerij-kazakov-asfalt-i-teni-rasskazy-povest.webp)