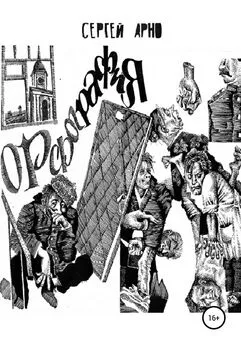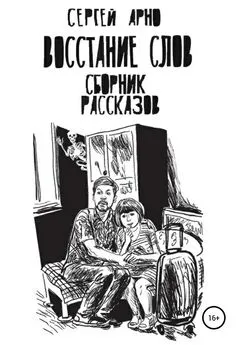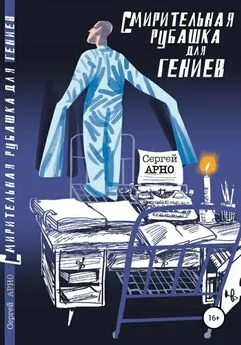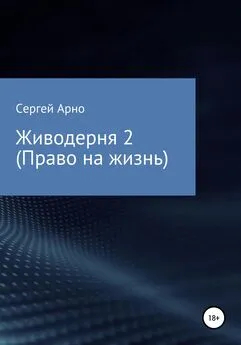Сергей Бибиков - Рукопись Арно Казьяна
- Название:Рукопись Арно Казьяна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Киев
- ISBN:9780890000212
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Бибиков - Рукопись Арно Казьяна краткое содержание
Рукопись Арно Казьяна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эти события были «заповедной ценностью» нашей семьи. Спустя четыре года у меня появился брат. Конечно же, как и у всякого малыша у него были свои «заповедные ценности» для родителей, но пальма первенства постоянно была моей.
Я очень рано уяснил себе сладость обладания пальмой первенства в семье, с братом обращался постоянно свысока. Основным критерием своей оценки умственных способностей родителей считал их глупость и обращался с ними соответственно, без «китайских церемоний». Они это воспринимали юмористически, пропуская мимо ушей не всегда приятный для слуха «цыплячий» критицизм. Как-то уж так получалось, что чем взрослее я становился, тем очевиднее для меня становилась родительская «глупость», тем лаконичнее и суровее обращался с ними.
Я действительно был вундеркиндом: в пять лет бегло читал, легко запоминал прочитанное и умел почерпнуть главное из него. Отлично считал. Неплохо рисовал.
Когда пошел в первый класс школы, отец купил мне мандолину и срочно стал осваивать ее с тем, чтобы, научившись играть, научить тому же и меня. И тут я взошел на новый пьедестал – пьедестал уникума на музыкальной ниве: намного превзошел отца в музыкальных способностях.
В школе, с первого и до последнего дня, то есть до окончания десятилетки, учился исключительно на «отлично».
Что касается брата Гриши, то он по всем статьям отставал от меня: долгое время читал по складам, тут же забывая прочитанное, тем более, что будучи рассеянным, постоянно упускал главное из него. С арифметикой, а потом и с математикой не ладил, как, впрочем, и с остальными предметами. С музыкой то же.
Там, в лесу, на подстилке из прошлогодних листьев, вспоминая все это и по новому оценивая и родителей с их несложившейся в последующем семейной жизнью, и младшего брата с его уникальной способностью быть и добрым, и всепрощающим и, главное уникальной способностью не быть эгоистом, вроде меня, готов был, что называется, провалиться сквозь землю от стыда за свой эгоизм. Как мне захотелось находиться сейчас с ними вместе, защитить их ценою жизни, если это понадобится! Я имел в виду мать и брата. Что касается отца, то я знал из письма, полученного в начале войны, что он эвакуировался с другой, молодой женой, свою же семью оставил в Харькове на «милость» фашистам, а ведь мама принадлежала к опальной нации, обреченной Гитлером на геноцид! С отцом я не желал встречаться вовсе. Уверен, что если бы отец был настоящим человеком, то, несмотря на разрыв с женой, он смог бы ее эвакуировать, а с нею и восемнадцатилетнего Гришу. Он этого не сделал. Что ж, значит, у меня нет больше отца…
Когда мне исполнилось пятнадцать лет, а это было в 1933 году, мы получили «хорошую» квартиру на Дмитриевской. Это была однокомнатная квартира с общественной кухней, так называемая, коммунальная. Уж не потому ли, что в комнате площадью десять квадратных метров проживать стало сразу четверо членов семьи? Правда, в квартире на Дмитриевской была общественная кухня, которой не было на прежней квартире, и мы больше не готовили пищу на примусе в комнате.
Может, поэтому она и называлась коммунальной, от слова коммуна, что означает – вместе? Только, как я убедился вскоре, общественная кухня – далеко «не Рио-де-Жанейро». Иногда я даже с тоской вспоминал шум примуса в нашей комнатке в Горлановском дворе, запах керосина и гари и возню матери приготавливающей пишу с обязательным мурлыканьем под нос какой-нибудь опереточной арии.
Она обожала оперетту и при всяком удобном случае посещала ее. Музыкальностью ее Бог не обделил. И, хотя она не играла ни на одном из инструментов, пела отлично. Не знаю, как на работе (она работала буфетчицей), но дома во время бесконечной домашней возни (ведь ей нужно было обслужить трех мужчин, двое из которых категорически отказывались унижать свое мужское достоинство помощью женщине: этими «двумя» были отец и я – «умник») она постоянно пела. И только Гриша пытался хоть чем-нибудь помочь матери.
Итак, мы переехали на «хорошую» квартиру. Об этом говорили все жители нашего бывшего двора, которым о такой квартире и мечтать было «зась». Еще бы: сухая, с общественной кухней! Правда, наша квартира на Усовской была тоже сухая, так как мы жили на втором этаже двухэтажки, на котором ютилось еще три семьи, но там не было общественной кухни, о которой так молитвенно мечталось тем, у кого ее не было, то есть, большинству населения Харькова. Об индивидуальных кухнях в те далекие двадцатые, да и в тридцатые годы, и говорить нечего – их имели единицы.
И еще об одном преимуществе нашей новой квартиры с завистью упоминали жители нашего бывшего двора – о паровом отоплении. Это было умопомрачительно, так как избавляло от сложной проблемы ежегодного приобретения дров и угля, что было сложно из-за дефицита топлива и «влетало в копеечку».
Но если жители прежнего нашего двора завидовали нашей квартире, то какие же квартиры были у них? Всего во дворе, считая и жителей фасадного двухэтажного дома, нижний этаж которого был отдан под службы быта: парикмахерскую, пекарню, хлебобулочный, продовольственный магазинчики и дворницкую, проживало двадцать три семьи. Это был многонациональный двор, каких в те годы существовало множество. И никаких шовинистических предрассудков: идеальное, словно выверенное на «аптекарских весах» равенство! Интернационализм в действии.
В этом дворе проживали: украинцы, русские, татары, поляки, австрийцы, латыши, евреи, белорусы. Украинцев – три семьи, русских – шесть, татар – четыре, поляков – две, латышей – одна, евреев – пять.
В основном малограмотные, а то и вовсе безграмотные люди почти ничего не читали, а значит, жили в полной изоляции от какой бы то ни было агитации и пропаганды, ибо в те годы не было еще не только телевизоров, о которых мы и перед войной только слышали, но и радиоприемников. А это еще значит, что мир и дружба между собранными в случайной комбинации людьми различных национальностей оказывались естественными, как сосуществование воздуха с водой, неба с землей, осадков – с уровнем воды в реках и морях. Если и были любители поворчать в кулачок по поводу той или иной нации, то по мере сосуществования в одном дворе, их становилось все меньше. Не обходилось само собою и без того, что вгорячах кто-либо и «упрекнет» соседа в причастности к другой нации, но это было не в счет, так как уже на следующий день «упрекнувший» всем своим видом умоляет о прощении, а его оппонент всем своим видом дает понять, что вовсе не сердится.
Итак, какие же квартиры в двадцатые, да и тридцатые годы, были у жителей нашего «Горлановского» двора? «Горлановским» его называли по имени собственника хибар, понастроенных им под сдачу бесквартирным рабочим на пустыре, примыкающем к Гончаровке. Какое наследство оставил царизм рабочему классу в социальном плане? Квартиры «Горлановского» на этот вопрос могут ответить «самостоятельно». Итак, предоставим им слово…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
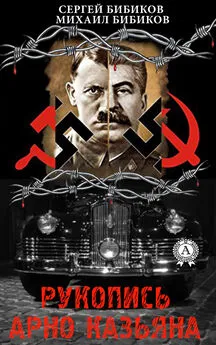
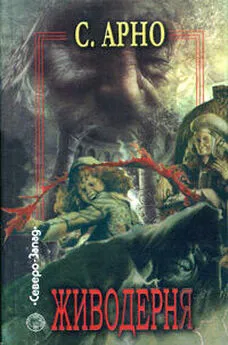
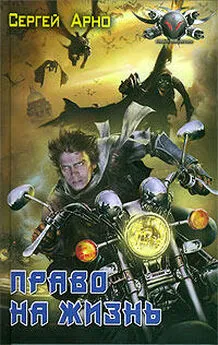
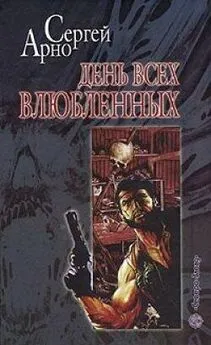
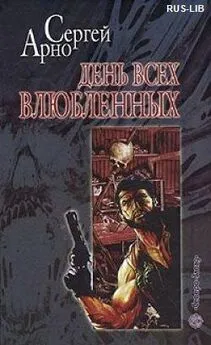

![Сергей Арно - Фредерик Рюйш и его дети [Гид по ранним коллекциям Кунсткамеры] [litres]](/books/1068145/sergej-arno-frederik-ryujsh-i-ego-deti-gid-po-ranni.webp)