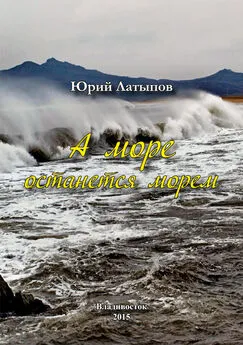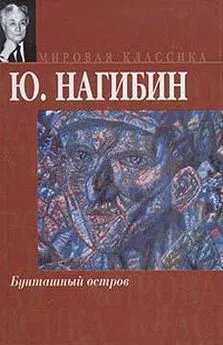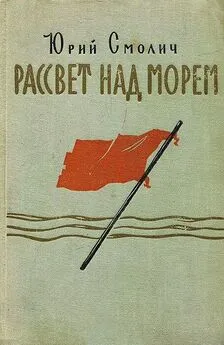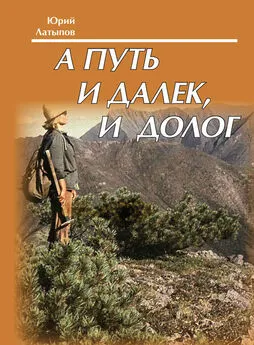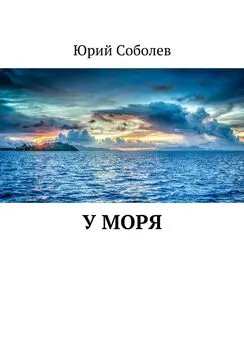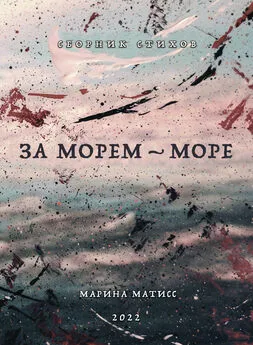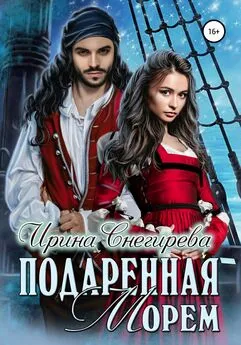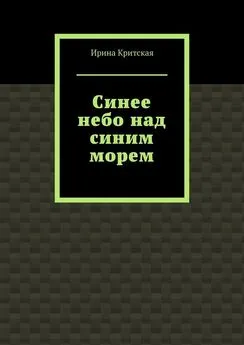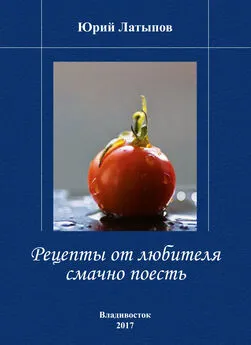Юрий Латыпов - А море останется морем
- Название:А море останется морем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-905754-41-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Латыпов - А море останется морем краткое содержание
Для широкого круга читателей, особенно любящих путешествия и единение с природой.
А море останется морем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Спрятав валюту в фотографический кофр, я вместе со всеми, разбитыми в группы по пятеркам (только так мог советский человек ступить на иностранную землю, по пять пар глаз) стал погружаться в один из рейдовых катеров, один за другим подходивших к трапу «Урываева». Через десять минут мы уже были на городском пассажирском пирсе и, стали разбредаться во все стороны многомиллионного города.
Кстати о группах. Накануне выхода на берег вывешивались списки тех, кто «увольняется» на каждый день стоянки в порту. Для проформы проводился опрос пожеланий спутников по выходу на берег. Но обычно «Помпа» (первый помощник капитана по политической части – непременный член команды в советское время), не спал ночей, и составлял «пятерки» спустя годы уже «тройки», заодно «прощупывая» возможные, нежелательные, возникшие за время рейса, «связи». Связи, конечно, были, но он «стоял на страже» всеобщего целомудрия и разлучал все стихийно возникшие за этот месяц пары (потенциальные перебежчики и предатели по его мнению), известные ему или его «осведомителям». Вообще эти тройки были, отработанным с «искровских» времен, способом контроля всех за каждым. Старший по тройке, или еще его называли «звеньевой», обязан был доложить о разъединении тройки на время более двадцати минут, что было с точки зрения начальства достаточно для посещения общественного туалета дамами, так как тройки делались смешанными. Старшим в тройке назначался кто-нибудь из руководящего состава команды или экспедиции. Списки троек вывешивались вечером, за день перед увольнением на берег. «Не разъединяться», «не вступать в разговоры», не «поддаваться» и так далее – вот напутствия, которые мы получили от «помпы».
Город сразу же обступил нас со всех сторон, обхватил блестящими стальными переплетами окон с разноцветными стеклами, закрыл тенью нескольких небоскребов. С пирса на второй этаж застекленной эстакады двигались эскалаторы, мы ступили на один из них, и началось наше путешествие по этому «азиатскому чуду». Как хорошо после двухнедельной болтанки в океане, из которых неделю мы провели между небом и водой, идти по красивым, узорчатым плиткам тротуаров, слушать многоголосье города, пялиться на разноцветные рекламы и вдыхать другой, мягкий, наполненный влагой и ароматами воздух.
Кроме шефа, мы все были в «империалистической загранице» первый раз, она ошеломляла: небоскребы, шикарные автомобили, раскидистые пальмы, разно племенной народ со всего мира, на каждом углу лавчонки с «колониальными» товарами и экзотическими фруктами, «жвачка» немыслимых сортов и вожделенная в те годы для большинства из нас «Кока-кола»… Мы поспешили отметиться в первом же повстречавшемся кафе, где нам подали острое малайское мясо с зеленью. Мы просто не могли устоять, чтобы не попробовать содержимое, стоящих на столе несколько бутылочек с разными, как оказалось, очень острыми и жгучими приправами. Потом с полчаса ходили с открытыми ртами, в которых полыхал едва терпимый «пожар”, и пили пиво, чтобы как-то его затушить.
Воздух города был горяч, но можно было идти по веренице магазинов, соединенных переходами, в которых было прохладно. Все вокруг было необычно, интересно, нарядно и ярко. Легко и цветасто одетые сингапурцы, сингапурские девушки, покачивая бедрами, скользящие по вымытым до блеска тротуарам, многие босиком, позвякивая золотыми колечками на лодыжках, пестрая толпа с преобладанием дружелюбных лиц китайского типа.
Не было видно ни спешащих по-московски, людей, ни нахмуренных полицейских, не слышно громко говорящих между собой на улицах прохожих, ни звуков автомобильных клаксонов. Ровный гул, бормотание, как под сурдинку, толпы людей, перетекающей из улиц в проходы, через магазины, мостики над улицами, и всюду успокаивающая, чуть слышная музыка. Глаз, слух и обоняние отчетливо отмечали эту искусственную, урбанизированную, но такую приятную, обволакивающую сознание, гармонию. Это был тот, другой, неизвестный нам еще мир, который так тщательно скрывали от нас наши «отцы-благодетели», наша «разоблачительная» пресса, телевидение и кино. Навстречу шли улыбающиеся нам люди, неторопливые, подтянутые, вежливые, искоса поглядывающие на наши выделяющиеся пятерки, одетые в советский ширпотреб.
Мало сказать, что Сингапур нам решительно понравился, с первых шагов выхода в город. Он слепил безукоризненной чистотой, успокаивал вылизанными скверами и парками, притягивал взгляд колониальной архитектурой старых кварталов, надписями на английском языке, такси с кондиционерами, фруктами, нарезанными кусочками и выложенными в охлаждаемых застекленных витринках. Город разворачивался перед нами всеми своими сторонами, затягивая, зазывая в закоулки, маленькие магазинчики («шопы») и исполинские суперсамы («сторы»), проспекты и площади («плазы»). Общаться с его жителями, даже при нашем знании английского, было нетрудно, выручал «пиджин-инглиш». А на «Малай-базаре», куда нас судовые «знатоки» местной торговли повели за покупками, можно было даже услышать ломанный русский язык: «руски спикулянт давай-давай». Сами же торговцы на этой громадной, километровой, международной толкучке использовали неизвестный даже нашим корабельным полиглотам, бывалым мореплавателям, язык – «баба-малай».
В «Пипл-парке» – впервые увиденном нами «городе в городе», можно было провести целый день, делая покупки, закусывая, или просто глазея в маленьких залах кино, поиграть на автоматах. Кое-где виднелись и русские надписи. Продавцы довольно бойко зазывали в лавки и предлагали посмотреть товар «лучший и самый дешевый».
О Сингапуре я мог бы рассказывать долго, это были первые, самые яркие впечатления человека, вдруг попавшего в иной капиталистический мир (в социалистической загранице я уже бывал) – в страну за «железным занавесом». Сегодня, через тридцать лет, это уже выглядит по-детски наивным. Наши дети за последние 15–20 лет смогли объехать полмира, побывали в нескольких странах, на всех континентах, и даже остаться там для постоянного проживания и нарожать внуков. Свобода передвижения стала для многих почти нормой. А вот тогда, во «время застоя», это было равноценно попаданию на «тот свет». Многие очевидные факты не укладывались в наши зашоренные умы. Многое из тех реалий жизни в «горячо любимой стране», в отношении властей к отъезжающим за рубеж, и к внешнему, «капиталистическому» миру, невозможно объяснить современному человеку.
По довольно точному определению одного из очеркистов того времени, мы были «великой слаборазвитой державой», что накладывало свой отпечаток на все формы общения с другими странами. Особенно контрастировал этот неизвестный нам мир с нашим по внешнему, цветовому многообразию окружения, яркости реклам, цветным стенам домов, цветастой одежде, легкой и удобной, бесчисленному количеству и разнообразию товаров в магазинах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: