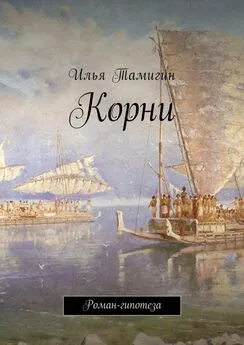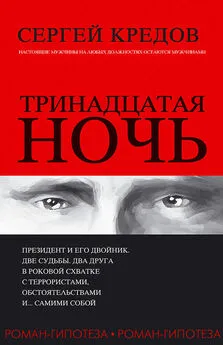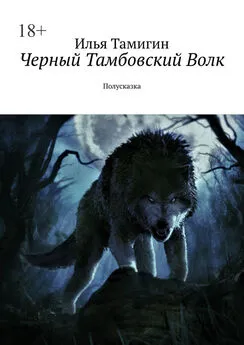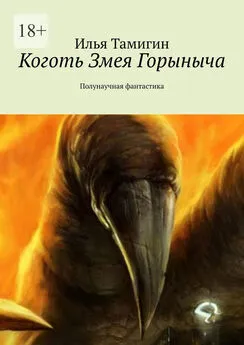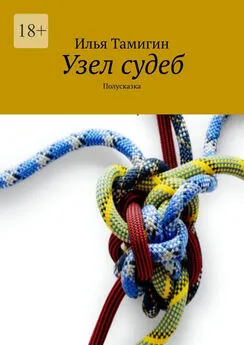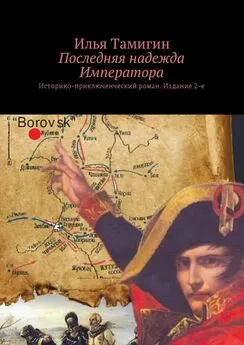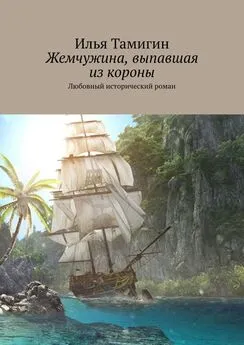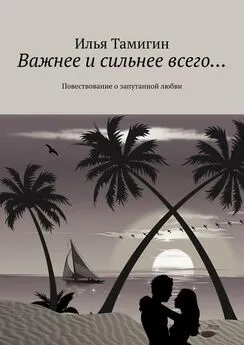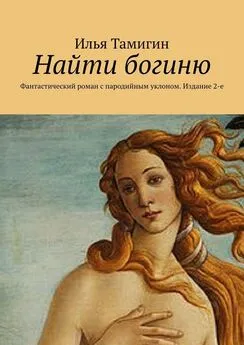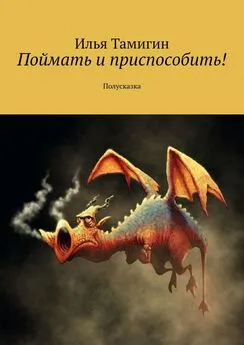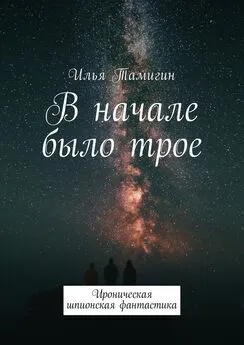Илья Тамигин - Корни. Роман-гипотеза
- Название:Корни. Роман-гипотеза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449010865
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Тамигин - Корни. Роман-гипотеза краткое содержание
Корни. Роман-гипотеза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наступил апрель. Солнце пригревало, сугробы, в марте покрывшиеся толстым настом, стремительно оседали. Ручей, не замерзавший всю зиму (из-за ключей, бивших со дна) вздулся втрое и побурел. Воду теперь приходилось отстаивать всю ночь, и наутро сливать с осадка. Осадок иногда был в ладонь толщиной. Пациенты теперь приходили редко, всего один-два раза в неделю. Распутица!
Джим, освоившийся в тайге за долгие девять месяцев, однажды отошел от избы довольно далеко, мили на три. Просто погулять, размять затекшие мышцы. На полянах снег уже полностью растаял, и идти было легко. Внезапно он услышал неподалёку какую-то возню и взмыкивание. Осторожно направившись на звук, вскоре вышел к болоту и увидел провалившегося в грязь молодого лося. Бедняга уже погрузился по самое брюхо и отчаянно пытался выбраться на твердую почву. Передние ноги его молотили по грязи, но безуспешно, он только всё больше выбивался из сил. Лиловый глаз, налитый ужасом подступающей смерти, уставился на Джима. Джиму стало нехорошо, замутило. Но помочь животному было невозможно, кроме как облегчить, в смысле, прервать его муки. Подумав, Джим свалил топором несколько елок и аккуратно положил их в болото. Пройдя по ним, не колеблясь, ударил лося топором в лоб. Вернувшись в избу, взял веревку. Закрепил добычу за шею, завел веревку через толстый сук стоявшей на краю болота сосны, как через блок, и, потихоньку, вытащил тушу на берег. Освежевал, провозившись до чуть не до заката (ибо опыта не было!), разрубил на части. Пыхтя, дотащил задок до избы.
– Молодец! – похвалила Ирина, – Охотник! Добытчик!
Затем заставила подробно описать произошедшее по русски. Это было потруднее, чем из болота лося тащить! Но Джим справился. Он уже говорил по русски бегло, только путался в склонениях и спряжениях. Угнетало также отсутствие артиклей.
– Неплохо, совсем неплохо! Зачет! – улыбнулась Ирина, – На ночь прочтешь десять страниц из «Капитанской дочки».
Джим в ту ночь осилил только восемь страниц. Не выдержал, заснул – сильно устал, потому что…
К маю снег лежал только кое-где в распадках и оврагах. Пациенты рассказали, что реки вскрылись. Стало быть, наступило лето! Джим с нетерпением ждал возвращения лесника. И тот пришел! Принес подарки: Ирине – пушистую кошку Мурку, красивого трёхцветного окраса, а Джиму – сапоги, телогрейку, спальный мешок и замшевые тунгусские штаны.
– Моя прелесть! – ворковала Ирина, тиская мурлыкающую кошку, – Да ты, кажется, в положении?
– Так точно, скоро котят ждите! – авторитетно подтвердил Оболенский, – В компании веселее!
– Вот уважили, так уважили, Леонард Михайлович!
– Бросьте, сударыня! Хоть малую радость вам принес в благодарность за ноги!
– Да, кстати, как ноги-то? – посерьёзнела хозяйка.
– Отлично! Не болят, не холодеют, хожу снова по пятьдесят верст и не устаю! Только настойка заканчивается.
– Ничего, я вам ещё дам. А не то сами сделайте – китайский лимонник знаете, ведь?
– Знаю, нарву. Вы мне рецептик только напишите.
Джим, тем временем, за печкой примерял обновы. Всё оказалось впору!
«Ну, лесник! Глаз – алмаз!» – с уважением подумал он.
Вечером, за чаем, бывший князь, а ныне лесник Григорий (он потребовал называть его так для конспирации), объяснил Джиму диспозицию и план похода.
– Идем до Васюгана, людей по дороге не будет. На реке у меня лодка спрятана, шитик. На нем сплавляемся до становища хантов. Я с Петром, председателем, обо всем договорился, примут тебя. Ты – юкагир, издалека. Он вопросов задавать не будет, и ты помалкивай. Про меня тоже. Только ты да Ирина знаете, кто я на самом деле, так что не проговорись!
Разговор шел по русски, но Джим все понял правильно, кроме национальности.
– А почему я юкагир? Это, вообще, кто?
– Малый народ. Ты на них похож маленько. Живут на Колыме, отсюда несколько тысяч верст. Здесь ни одного нет и языка их никто не знает, так что тебя не проверишь. Конспирация! – пояснил лесник.
Джим, подумав, признал, что маскировка хорошая. Действительно, как проверить, юкагир перед тобой или маори, если языком не владеешь?
– А как меня зовут? – поинтересовался он, – Надо же как-то назваться!
Лесник улыбнулся и отхлебнул чаю:
– А ты, сам, какое имя хочешь?
– Ну, я не знаю… А можно, я возьму имя моего короля?
– Георг… Георгий… – покатал имя на языке Григорий, – Во! Егор! Будешь Егор Егорович!
– А почему – Егорович? – удивился Джим.
– У нас принято указывать имя отца. А король ваш – Георг и сын Георга! Егор – по русски то же самое, что Георг. Есть, правда, имя Георгий, но оно в народе не употребляется.
Лесник помолчал и веско добавил:
– Фамилия твоя будет Красавин. В честь Ирины Васильевны!
Ирина засмеялась и кивнула.
Джим не возражал: Красавин – так Красавин! Взяв карандаш, вывел на бумажке каллиграфическим почерком: Егор Егорович Красавин.
– Молодец! – хлопнул его по плечу Лукьянов, – Хоть сейчас в писари!
Наутро они, попрощавшись с Ириной, отправились в путь-дорогу. На прощанье она нараспев произнесла непонятное:
– Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и кровавый глаз Сына Неба напрасно пронзит твою тень…
Глава девятая
Деревня Масловка в смысле снабжения и культурных развлечений сильно уступала даже селу средней величины, не говоря уже о городе, тем более областном. Масловчане посещали Омск не часто, редко более трёх-четырех раз за всю жизнь. Пятьсот верст пешком далековато, на лошади тоже, да и жалко её, лошадь-то… Можно, конечно, было с комфортом доехать по чугунке – всего-то ночь, но это стоило немалых денег, а у деревенских все денежки считанные, лишних нетути! Тем не менее, в город иногда было всё-таки надо – за товарами, в сельпо не продававшимися. С тех пор, как карточки отменили, многое стало доступно: и мануфактура, и обувка, в том числе даже галоши, и сахар-пряники-консервы-колбаса. Народ изнывал, вожделея предметов роскоши, от которой успел отвыкнуть за долгие годы войны плюс несколько лет до неё, плюс несколько лет после. В клубе, например, было всего три грампластинки! На одной «Вставай, страна огромная!» (в сорок первом военкомат прислал для укрепления патриотизма). Её слушали каждый раз перед открытием заседания правления колхоза. На второй – речь товарища Сталина на XVII-м съезде ВКП (б). Её тоже слушали часто, особенно на майские и октябрьские праздники, перешептываясь о том, что тогда Первым Секретарем ЦК ВКП (б) чуть не избрали Кирова, за что впоследствии товарищ Сталин и растовокал и его, и всех делегатов, за Кирова проголосовавших. На третьей – Лидия Русланова, «Валенки». Не больно-то потанцуешь! Тем не менее, всё равно танцевали под гармошку-трёхрядку, управляемую безногим инвалидом Федей Носовым. Федя играл неважно: фальшивил, сбивался с ритма и быстро уставал. К тому же знал он всего восемь мелодий, под которые можно было танцевать, и столько же песен. Надо ли говорить, что гвардии старшина, потерявший ноги под Кенигсбергом, был самоучкой? Правильно, не надо! Но, к чему это отступление от генеральной линии сюжета? А к тому, что именно Федя изобрел совершенно новый подход к снабжению! Идея его была проста, как отрыжка после редьки с квасом: скинуться и послать в город ОДНОГО человека, который и приобретет всё, что закажут односельчане! По списку, ага? И от работы отрываться не надо, и гигантская экономия на билетах! Изобретение его было совершенно эпохальным, как изобретение колеса или добывание огня.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: