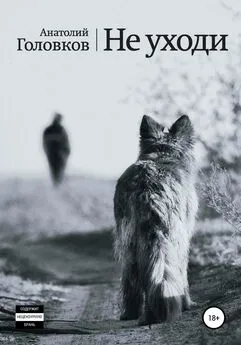Анатолий Головков - Jam session. Хроники заезжего музыканта
- Название:Jam session. Хроники заезжего музыканта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449644411
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Головков - Jam session. Хроники заезжего музыканта краткое содержание
Jam session. Хроники заезжего музыканта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Узнав, что трубач держит путь в Москву, они дико расхохотались и побрели дальше, в сторону Колодезя Бездонного.
У Егорова было нечего отнимать, кроме трубы. А кому она нужна? Поэтому он продолжил путь сквозь снежную пелену. Его лишь одно беспокоило. Вот если он окончательно минует предместья и окажется в полной темноте, даже без луны?
В таком случае, рассудил Егоров, будут блестеть рельсы, отполированные колесами. Еще он сможет ориентироваться по звездам, держа курс, указанный рабочим, строго на юг. И должна же, наконец, когда-нибудь закончиться эта блядская ночь?
Глава 2
Пирожки с ливером
– Ник, вставай, на первую пару опоздаем.
Это еще кто? Где же правда жизни, люди добрые? И где сам, Егоров? Все еще тащится по шпалам? Не похоже! Нетушки, он в общаге, и друг Водкин орет, будто его шилом ткнули.
Водкин Влад, фаготист, это ведь еще до армии было, в музыкальном училище!
Егоров высовывает из-под одеяла ногу в рваном носке, шевелит пальцем: тик-так. Холодно. Ничуть не лучше, чем в этом хреновом городке, как его… Колодезь Бездонный, всё перемешалось.
Черно-белое кино.
– И кисель варить твоя очередь.
Егоров бежит к умывальнику, чистит зубы пальцем, щетку снова украли. Ищет бритвенный станок, станка нет. Он перепутал: в музыкалке не росли еще у него ни усы, ни борода. На зеркале кто-то зубной пастой начертал: «Жизнь говно!»
На фоне этой истины лицо Егорова – еще не Никиты Николаевича, а просто Никитки – без синих кругов под глазами, брылей на скулах и горестной складки на лбу. И никакого намека на плешь – волосы торчком.
Влад уже воду греть поставил. С таким кипятильником – лезвие бритвы, зажатое между спичками, – через минуту будет готово.
– Снова земляничный, – ворчит Водкин, вынимая из тумбочки последний брикет. – Хоть бы абрикосовый или там яблочный для разнообразия!
Один давит брикет ложкой до крошева, сыплет в кружку, другой размешивает. Водкин разливает кисель по стаканам, остатки батона пополам. Из коридора тянет жареным, Никита втягивает ноздрями пряный воздух. Картошка на смальце, а сверху яичница. На свой вкус, говорит он Владу, он бы еще посыпал данную еду укропом и молотыми, знаешь ли, семенами кориандра.
– Везет деревенским, – говорит Водкин, дуя на кисель. – И почему люди не выбирают, где им родиться?
– А не хотел бы ты родиться негром на острове Бали? Грыз бы бамбук.
– Где этот Бали, ты хоть знаешь?
– Вроде в Африке.
– Сам ты Африка. Хватай гудок, побежали.
Восемь утра. Вместо первой пары лекций – хор, потом обязательное фоно, музлитература, ничего хорошего. Но попробуй прогулять, стипендии лишат, и тогда что?
Хористы собираются в аудитории, похожей на зал прощания в крематории; дежурные, проклиная судьбу, пришли еще раньше, разложили подставки.
Со стороны выглядит как лестница в небо.
Егоров часто развлекал себя фантазией: он поднимается по мосткам вверх, проникает через потолок и ржавую крышу в небо, пронзает облака, чтобы очутиться в ином мире, где небо под ногами, а в вышине – только блюзовая синева и солнце.
Осень за окнами, тяжелый сумрак, словно черти накурили; все зевают, лампы слепят глаза, не то, что петь – жить не хочется.
И вот уже шепоток: Амадей идет!
Влад проталкивается в ряд первых теноров, Никита лезет на верхотуру, к басам.
Распевка.
Чем выше они поднимаются по ступенькам хроматической гаммы, тем крепче и сочнее и точнее голоса. Дежурные раздают ноты; Водкин смотрит на Егорова, подмигивает: разыграем Амадея. Он, Влад, уже с тенорами договорился. Девчонки испугались, заупрямились. Егоров пошептался с басами. Амадей взмахнул рукой: песня о Ленине, хуже блевотины. И почему каждое утро с нее начинают, как с гимна?
Солист поет:
– Ле-е-нин…
– Ста-а-алин, – вторят заговорщики.
Солист краснеет, но продолжает:
– …это весны-ы цветенье. Ле-енин…
– Ста-а-алин! – отзывается хор.
– …это побе-еды клич!
Рифмуется с «наш дорогой Ильич».
– Вы что творите? – Амадей дает отмашку. – Меня же уволят. – Он при Сталине сидел. – Нашли, кого славить, шуты гороховые. Водкин, Егоров, ваши дела?
Хор хихикает. Амадей вздыхает. Ладно, давайте «Сосну». «На севере диком растет одиноко на голой вершине сосна…»
Блистательный перевод Heine, выполненный Лермонтовым: «Ein Fichtenbaum steht einsam/ Im Norden auf kahler Hoh’», что откроет для себя Егоров много лет спустя, выпив за Михаила Юрьевича, изменившего размер стихотворения, которое легко легло на музыку.
К десяти уже спет Шуберт, и Бах, и Свиридов. Глаза блестят, распелись, даже еще хочется, но занятие закончено, перемена.
– Егоров, – говорит Сухоруков, собирая ноты в папку, – зайдешь ко мне.
– Мне конец, – говорит Никита Водкину, – и это из-за тебя, чертов диссидент.
Тащится Никита на второй этаж с тяжелым сердцем, стучится в двери, где табличка «Завуч». Сухоруков не один, за столом Панкратова, педагог по вокалу.
– Ну, вот я это самое… пришел. – Никита опускает голову, ожидая разноса.
Сухоруков садится за рояль.
– Слушай, Егоров, правда ли, что ты берешь ля малой октавы?
– На трубе?
– Голосом.
– Ну, беру.
– Но это же на три тона ниже, чем я! И при этом, я же не пацан, Егоров. У меня ведь, Егоров, устоявшийся бас. Ниже меня никто в училище не берет.
Панкратова хихикает.
– Не верьте вы ему, Амадей Степанович. Тоже мне, Шаляпин нашелся! Шалопай из шалопаев!
– А вот мы сейчас проверим, – говорит он и нажимает клавишу. – Поехали. Сначала я, потом ты.
– Ре-е-е, – гремит завуч.
– Ре-е-е, – вторит Никита, оглядываясь по сторонам.
– До-о-о, – несколько затрудненно, но всё же поет Сухоруков.
– До-о-о, – легко и уверенно продолжает студент.
– Си-и-и, – астматически выдавливает из себя Сухоруков, и это уже не нота, это хрип.
– С-и-и, – сочно и чисто басит Егоров.
– Ниже не смогу, – признается Амадей. – А ты?
– Ля-а-а, – долго и уверенно тянет Никита и так, что, кажется, в окне дрожат стекла.
Сухоруков откидывается на спинку стула. Он не скрывает огорченья.
– Это, Егоров, какая-то гегелевская метафизика и абсурдизм ума.
Панкратова молчит. Щеки завуча покрываются румянцем.
– Тебе, вообще-то, певцом быть надо. Зачем на духовое отделение пошел?
– Тут бы я с вами поспорила, Амадей Степанович, – возражает Панкратова, нюхая только что покрашенные ногти. – Да, да, да! Лучше хороший трубач, чем посредственный вокалист. У него голос красивый, низкий, но слабоват.
– Не знаю, не знаю, – говорит Сухоруков, – я, как хородирижер… Ладно, катись отсюда, Егоров. Только никому не рассказывай. Это ж сраму будет! Студент берет ноты ниже самого низкого баса в области.
– А правда ли, – встревает Панкратова, – что вы с Водкиным в церкви поете? – Егоров мнется у дверей. – А еще комсомольцы, – упрекает Панкратова, глядясь в зеркальце и пудря нос, – прислужники мракобесов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



![Булат Окуджава - Заезжий музыкант [автобиографическая проза]](/books/1087743/bulat-okudzhava-zaezzhij-muzykant-avtobiograficheska.webp)