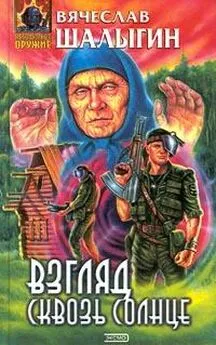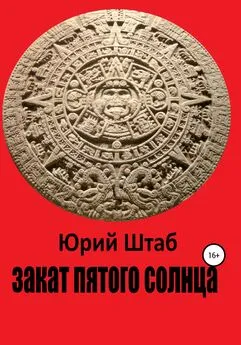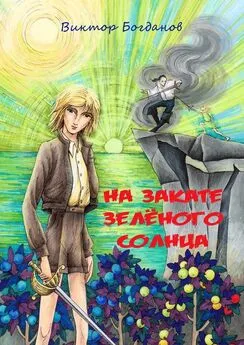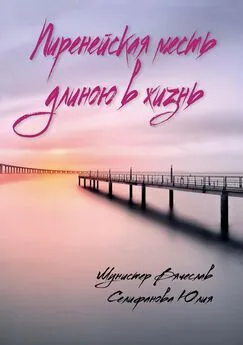Вячеслав Мунистер - Закат полуночного солнца
- Название:Закат полуночного солнца
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449371249
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Мунистер - Закат полуночного солнца краткое содержание
Закат полуночного солнца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нигде нельзя увидеть одновременно столько косолапых рыбаков, сколько их собирается вдоль берегов Курильского озера во время нереста красного камчатского лосося – нерки. Корабль шѐл вдоль полуострова – так было проще держаться положенного курса на Авачинскую бухту. С левой стороны наконец, после надоедливых пейзажей, могущественно возвышались вершины.
Живое сердце южной пяди полуострова – кратерное озеро Курильское, которое увы скрыто от взгляда со стороны моря. Рожденное мощным взрывом вулкана, напоенное снеговой и дождевой водой, обрамленное вулканам. В небе близ берега можно было заметить сапсанов и каких-то белых птиц – на них и велась охота со стороны хищников. Разглядеть это можно было лишь в бинокль, так как человеческий глаз, к сожалению, не такой зоркий, как у многих хищных птиц и зверей.
Дикие земли на крайнем юге полуострова, неустанно штурмуемые Тихим океаном с восточной, и Охотским морем с западной стороны, не оставили равнодушных к грозной красоте, с постоянным опасением того, что вот-вот и сопки заиграют с пламенем и начнут тлеть. Да, и действительно – все окрестные и видимые с «Гельвеции» вулканы являлись действующими. С великим удовольствием, стоя на палубе толпы пассажиров смотрели на здешние виды. Да и соскучились они по свежему воздуху – благо им скоро повезет с этим и будет даровано время, чтоб постоять на суше, на все еще Русской, но такой далекой земле. Лишь гора Неприятная – являлась потухшим вулканом, а вот Желтовская сопка, Ильинская, и конечно Ксудач – весьма активными, то бишь «живыми».
Последний и вовсе извергался пятнадцать лет назад, по замечанию одного из географов, который увлекался вулканами и бывал здесь неоднократно, чем и вызвал для публики интерес, став своеобразным рассказчиком, лектором, с такой любовью рассказывая про кальдеры, кратеры и менее знакомые обычному гражданину слова.
Но эта идиллия не могла долго продолжиться – и в разговор вступил еще один знаток, но только фауны и флоры, который негодяйским образом переманил к более интересной темы для обсуждения большую часть непреданных слушателей, он как и полагалось по специализации рассказывал про растительный мир и про животных. А его друг – орнитолог, иногда встревал с рассказами про птиц – показывая на них прямо рукой. Прохладная погода и сырость вовсе не распугали путешественников, а горячий чай лишь продлил нахождение до позднего вечера. Ночью корабль впервые сильно снизил скорость хода – усталость обслуживающих его «сердце» давала о себе знать. Корабль шѐл с ходом в четыре узла в час и лишь утром вновь стал набирать скорость. Так, неосознанно, не хотелось прощаться с последним оплотом русского духа.
А что «охотой» на морских обитателей? Увы – затея оказалась глупой. Заброс получился неудачным и порвал сеть, что вызвало гнев у горедобытчиков. При поднятии сети обратно – случилось еще более неповадное дело, сеть разошлась на сотни «нитей», уж слишком древней она была и под воздействием холодной воды с ней что-то случилось. Капитан с боцманом посмеялись и разошлись по делам.
Но оказалось, это была не простая авантюра – а внутренний спор между ними. В итоге боцману пришлось сварить уху с сапога, и выпить «замечательный на вкус» прелестный бульон при всех на обед. Конечно это было смешно и подняло настроение на несколько пунктов точно. Издевательская натура Константина Львовича не знала мер, и эта шалость была одной из самых проявлений его безразмерной фантазии. Он пытался подколоть и Евгения Николаевича – но тот, сославшись на усталость, сорвал попытку.
Берег кардинально изменился, и был схож на Норвежский. Капитан предположил, что это подобие фьорд – узких, извилистых и глубоко врезавшийся в сушу морских залив со скалистыми берегами тем сопровождали корабль до вечера девятого дня путешествия.
Но это мнение было ошибочным с точки зрения каждого географа. Оказались позади сопки – Горячая и Мутновская, огромнейшие вулканы, вносящие страх и чувство даже какого-то раболепства. За час до ужина корабль вошѐл в Авачинскую бухту, уже было темно, но вечно белая маковка Корякской сопки привела в экзистенциальный восторг любителей фотографий – а этим увлечением страдали поголовно все. На фоне светящихся огоньков Петропавловского порта это выглядело сказкой.
Здесь уже все были готовы к причаливанию «Гельвеции», весточка, набранная одним из матросов, умеющих работать с радиотелеграфом успешно получена и на запрос был дан положительный ответ. И правильно – ведь ситуация на Камчатке была сложной. А вот для этого необходимо проследить за оригинальной историей борьбы за власть за последние годы. События 1917 года подняли страну на дыбы, не оставив в провинциальном благодушии и камчатскую «Тмутаракань». До Октябрьской революции в Петропавловске жили около двух с половиной тысяч человек, в основном, чиновничество с семьями. Довольно многочисленной прослойке полицейских и жандармов делать практически было нечего: воровали у нас редко, а про убийства – слыхать слыхали, но не видели.
Например, за весь 1916 год окружной суд рассмотрел пять или шесть уголовных дел. Стражи правопорядка, в основном, «трясли» с местных рыбу и пушнину, искали неплательщиков ясака, шлялись по кабакам и домам терпимости – благо их в городе хватало.
А вот к началу 1918 года Петропавловск сильно обезлюдел – осталось около тысячи горожан, остальных суровые вихри рассеяли по просторам теперь уже бывшей империи или по заграницам.
Но странно – чем меньше оставалось в Петрограде экс-подданных российской короны, тем больше появлялось торговых лавок, парикмахерских, ювелирных и прочих ремесленных мастерских. И в каждой такой точке можно было лицезреть личность восточной наружности: островная империя издавна вела политику отторжения Дальнего Востока от России. «Хакко иттио!» – «весь мир под японской крышей» – часть древнего самурайского закона Бусидо.
Шустрые эмиссары Страны восходящего солнца всячески подогревали и без того неспокойную обстановку, вербовали сторонников среди обиженных переворотами горожан, готовились выступить в роли гонимых, чтобы немедленно получить помощь в виде экспедиционных войск метрополии.
10 июля 1918 года в Петропавловск пришла телеграмма от русского консула в Японии, Лебедева с запросом, арестована ли советская власть, а не то… соли вам Япония не отгрузит! Руководители Совета находились во Владивостоке, члены Совета впали в ступор от растерянности.
Воспользовавшись беспомощностью Петропавловска, в селе Завойко (Елизово) клан Машихиных махом собрал волостной съезд, объявил диктатуру волости по всей губернии при подчинении еѐ сибирскому правительству.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
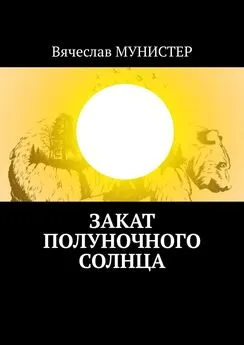




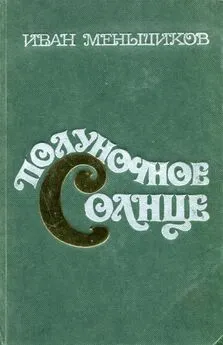
![Карл Вагнер - Последний из рода [Закат двух солнц]](/books/1112348/karl-vagner-poslednij-iz-roda-zakat-dvuh-solnc.webp)