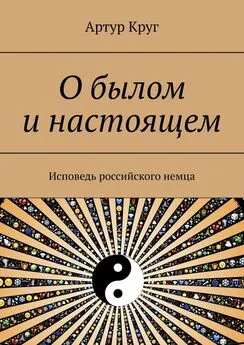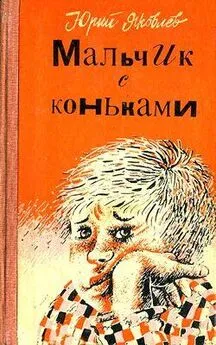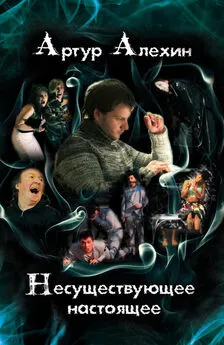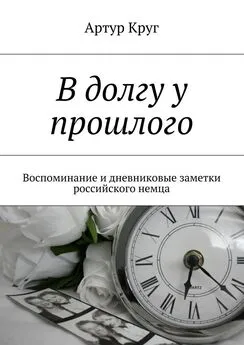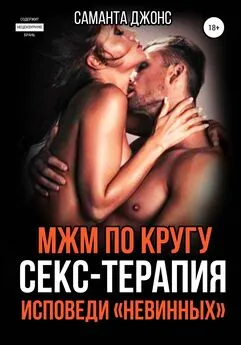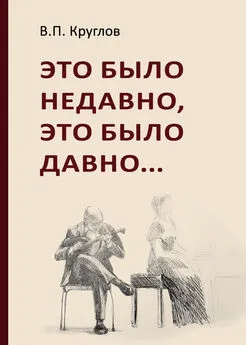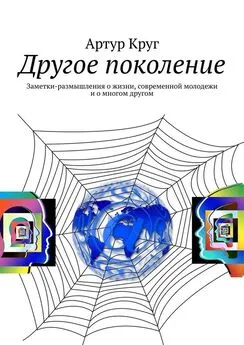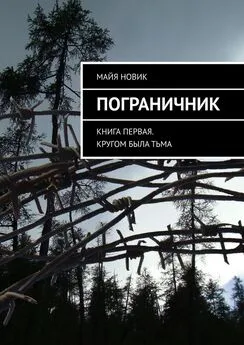Артур Круг - О былом и настоящем. Исповедь российского немца
- Название:О былом и настоящем. Исповедь российского немца
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449350510
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артур Круг - О былом и настоящем. Исповедь российского немца краткое содержание
О былом и настоящем. Исповедь российского немца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Старый дом. Под соломенной крышей соседствовали ласточки, приклеившие свои гнезда прямо под входной дверью. В зиму они улетали в теплые края, а весной радовали нас своим возвращением. Сарай, две небольшие комнаты, прихожая, кухня, спальня, стол, шкаф, кровать, печка с лежанкой, где смотрел свои детские сны сначала я один, а теперь со своими сестрами и вскоре уже с родившимся сразу после войны братом Вовой и сестрой Тамарой. Образовалась многодетная семья сердобольной мамы, которая взвалила на свои хрупкие плечи ответственность за ее благополучие. Никакой помощи от государства не было: колхоз был идеален с точки зрения принудиловки – с жертвами от репрессий и голодомором.
1951 год. Отчим в тюрьме. Мама в отчаянии. Отравился чем-то съестным Вовка, вмиг покрылся желтыми пятнами и умер. Это была моя первая встреча с реальной смертью, которая грозила нам всем. Деревенская голодуха той весной была особенно лютой. Каждое утро мы, десятки деревенских ребятишек – школьников, компаниями выходили за огороды и разбегались по ближайшим полосам, чтобы собрать оставшиеся с осени колоски и докопать прошлогоднюю картошку. В голод зима всегда ранняя. Прикрытые ботвой вороха картошки ушли под снег и к весне сгнили. Нас похвалили за помощь колхозу, а бригадира за бесхозяйственность посадили.
Весна избавляла нас от холода и голода. Зато различных насекомых за зиму в захудалом доме заводились много. Особенно уютно они чувствовали себя в моей рыжей шевелюре, которую мать по утрам расчесывала специальным гребешком, изготовленным дедом. Да и не только у меня, но и у моих сводных сестер, прибывших во время войны с севера. Когда они, уже будучи взрослыми и самостоятельными, не всегда оказывали маме должного, на ее взгляд, внимания, она напоминала им об этом, что вызывало у них раздражение, а у нее воспоминания о том, что ногти ее – вместо маникюра – окрашивались в алый цвет от ежедневной борьбы с этими назойливыми существами.
Весной на конном дворе объезжали молодых жеребцов: председатель колхоза Злачевский был большим любителем лошадей. Нас, наиболее смелых и отчаянных подростков, местный конюх немец Вилюш запускал в загон, садил верхом на занузданного в удила взбесившегося к весне молодого скакуна, отдавал поводья, и ты оказывался один на один с ним, вцепившись в гриву. Счастье, если кому-то удавалось удержаться два-три круга, на встающей на дыбы, виляющей задом и норовившей тебя непременно сбросить непокорной молодой лошади. Победителям можно было это испытание повторить.
На школьных каникулах учетчики в бригадах уговаривали нас, подростков, поработать в уборку на соломокопнителях или прицепщиками на тракторах. Сначала трусили, что можно угодить под плуг, потом побаивались, что не сможем поднять лемеха на краю гона. Кружилась голова, если долго смотреть на ползущую под ногами пашню. Самая трудная часть работы прицепщика – следить за агрегатом, на ходу чистить его от сырого грунта, чтобы лемеха плуга шли ровно по глубине, не скоблили землю, а работали в полный отвал. Работа, как на копнителе комбайна: либо пыльная в год засушливый, либо сноровистая, когда соломы невпроворот. С копнителя солому надо было складывать строго в ряд. Учетчик мог проверить, придраться и тогда ничего не заработаешь. Чаще всего бывало, что получали только то, что досыта наедались в бригадной столовой.
Частенько в нашем селе останавливался цыганский табор. Приезжал он не с пустыми руками. Куры и петухи, пойманные в соседних селах, шли на борщ. Варился он в больших котлах и был очень вкусным. А к вечеру старые цыганки устраивали гадания. Приходили в основном женщины, желающие узнать, что их ждет в жизни. Приходила погадать на отца и мама. «Твой муж живой, скоро вернется!» – мама вздрогнула и одарила ее платком. Я тоже протянул руку. «Ты, дружок, с собой удачу носишь!» – пророчествовала цыганка, окинув меня взглядом и увидев, что в правой руке у меня был узелок с картофелинами для цыганского костра в знак благодарности за гадания.
Что такое «носить удачу», я тогда не понимал и не мог себе представить. Уже глубоким вечером, в деревенской тиши, усевшись вокруг костра, цыганский табор начинал свой песенный рассказ. Чего здесь только не было: страстные напевы, роковая любовь, грусть и радость кочевой жизни.
Цыгане вносили оживление в жизнь села. Может быть, какие-то дворы не досчитывали кур, зато в душе послевоенных вдов гадания вселяли надежду.
Была у нас в селе своя местная колдунья. Звали ее баба Марфа. Эта странная горбатая старая женщина с крючковатым носом, всегда в черном, с деревянным посохом, выходила из дома редко. Куда-то уходила и вновь возвращалась. Мы от нее прятались, побаивались. Ходили слухи, что она заманивает к себе детей, чтобы потом что-то с ними сделать. Жила она затворницей, богомольной. Родственников у нее, как говорили в селе, никого в живых не осталось.
Как-то, когда ее не было дома, мы, любопытные варвары, заглянули в окошко ее коморки, где она жила, и – о ужас! – угол комнаты занимал огромный крест, а посреди помещения стоял обитый черным материалом гроб, прикрытый крышкой. К моменту смерти у нее все было подготовлено заранее. Предчувствие ее не подвело. Через несколько дней старушки не стало.
В селе все дороги вели к речке. Здесь мы купались, загорали, сюда по утрам выгоняли коров, поливали капусту, ныряли на дальность, на праздник Ивана Купалы прыгали через костер.
Ранняя весна 1953 года. На речке ледоход. Для нас, детворы, это явление долгожданное. Лед трещит. Льдины наползают друг на друга. Ледовая чехарда. Мы запрыгивали на середину отколовшейся части, и нас куда-то уносило.
Опять новость. В ночь на воскресенье убили сторожа Жоху. В субботу привезли в контору долгожданную зарплату. Какие-то злоумышленники это выследили, ночью проникли в помещение, убили добродушного, всем знакомого старика, инвалида войны, взломали сейф и забрали деньги. Поползли слухи – один страшнее другого. Нагрянула милиция, начались допросы, обыски. Подозрение пало на местных мужиков, в том числе и на мужа маминой сестры. Кто-то из соседей видел на его одежде какие-то следы крови и донес. Его арестовали, увезли в райцентр, две недели дотошно пытали, в том числе и жену: где ночью был, что делал и т. п. Отпустили только через три месяца: экспертиза не подтвердила соответствие группы крови. Дело закрыли, а бандитов так и не нашли.
Сторожа Жоху хоронили всем селом как раз в дни, когда по радио сообщили о смерти Сталина. В школе прошла линейка. Нас всех настолько взволновали слова директора, что многие проронили слезу. Центральная усадьба колхоза, который носил его имя, погрузилась в траур. Но кто больше оплакивал в селе смерть заслуженного односельчанина, инвалида войны, а кто смерть вождя, для нас было тайной какого-то рокового совпадения этих двух смертей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: