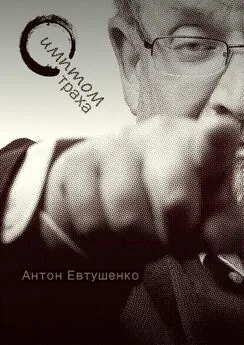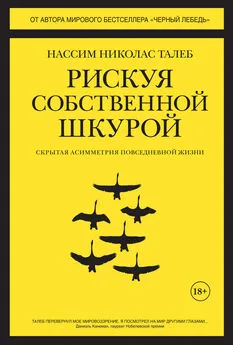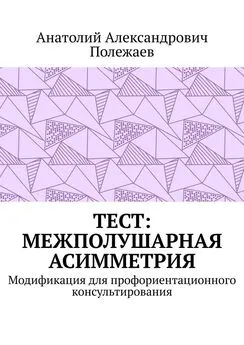Антон Евтушенко - Асимметрия
- Название:Асимметрия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:М.
- ISBN:978-5-6041440-9-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Евтушенко - Асимметрия краткое содержание
[b]Внимание! Ненормативная лексика![/b]
Асимметрия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Маменькин сынок – так за глаза называли Карима в КБ – подкупил интеллигентную, но бедную сотрудницу бюро не только роскошью ресторанов и букетами голландских роз, стоимостью в половину маминой зарплаты, но и, как ни странно, умением красиво ухаживать, где не последнюю роль сыграла великолепная декламация стихов по памяти. Карим боготворил две вещи: античную поэзию и крепкие напитки. Случалось, совмещал одно с другим. И всё же, если первое способствовало сближению родителей, то второе вело к их неизбежному разрыву. Мама любила Серебряный век русской поэзии и не столь ценных, не столь мужественных, но не менее крупных поэтов-семидесятников. Она называла их поколением без иллюзий, потому что сама была оттуда родом. Она не была из тех, кто сопротивлялся внутренне режиму, хотя, по собственным признаниям, распространяла большое количество машинописных копий самиздата сборника Цветаевой – официально не запрещённой в СССР, но практически ненаходимой в книжных магазинах. Она испытывала наслаждение при чтении этих романтичных, полнозвучных стихов. Её интересовало всё, что было так или иначе связано с Мариной. Даже я в награду за эту преданность планировался появиться на свет с вымышленным именем Мур – этим именем поэтесса ласково называла единственного сына. Карим хотел назвать меня в свою честь, вернее, этого хотела бабушка. Она считала, что имя ребёнка имеет сильное влияние на его судьбу, поэтому к выбору надо подходит ответственно. Разумеется, лучшим именем для мальчика она считала имя собственного сына. Бабуля не дожила до моего рождения, так что обошлись компромисснополовинчатым решением. В этой схватке Карим и Мур спаялись в инертно-беспристрастный нейминг англо-ирландского истока с едва уловимым перевесом в сторону отца. Надежда Никитична, директор школы, утверждала, что Ким – имя советского происхождения, составленное из заглавных букв Коммунистического Интернационала молодежи. Ну, не знаю, чтобы я ответил на это бы сейчас? Просто пожал плечами. Тогда – конечно, сильно злился и тихо ненавидел за нелепое и гнусное предположение. Что я тогда знал о Коминтерне? Понятно, что я раздражался на собственную неосведомлённость.
Мои родители сошлись стремительно, как вихрь, проедая семимильными шагами отношения. Стихи, случай, шёпот, музыка – их сплавили, а выпивка, дружки, долги и круглолицая буфетчица – раскололи раз и навсегда. Отец был и остаётся табуированной темой. Говорить о нём в нашей семье до сих пор не принято.
Кооперативную «трёшку» с изящным круговым балконом, оставленную им, пришлось менять на квартиру-«полуторку» с перегородкой и смежным санузлом. На эту разницу в деньгах мама рассчитывала поднимать меня на ноги. Мы перебрались на юг области, в город по меркам Кирово-Чепецка, крупный. Чабакур славился оцилиндрованными брёвнами, эмалированными вёдрами, трамвайным парком, троллейбусным депо и древними позвоночными ископаемыми, чьи найденные то тут, то там останки время от времени разбавляли жиденькой сенсацией местную газету «Магистраль». Одним словом, здесь можно было жить. Город лежал на крутом берегу Вятки на полпути к нашей бывшей даче, где Карим хлопотливо вил новое гнездо со стебанутой на всю голову дамой. Ближе к лету и каникулам, он умудрялся оседлать свой прыткий, но вдрызг разбитый москвичок, чтобы с двумя-тремя мелкими ремонтами в дороге добраться до Чабакура. После долго рядился с мамой, словно выторговывал залежалый товар, а когда – не с первой попытки – получалось, мы по южному шоссе, минуя магазины автозапчастей, пилили обратно с поломками двести километров на историческую родину отца.
Это был фанерный домик с удобствами наружу, вроде колонки и сортира под забором с вкопанным ведром. Двор, правда, был огромный: пятнадцать соток, засеянных полусъедобными растениями и корнеплодами. Эта буфетчица-разлучница была помешана на натуральном хозяйстве и феодальной экономике. Сахарная свекла, ячмень, картофель, редька, лук-шалот, щавель и даже лебеда были предметами её повышенного интереса. Всё шло в дело, всё, что появлялось на столе, было с огорода: ячменный хлеб, свекольник, лебедянь и жутчайший луковый салат. Оставив повсюду следы своей аграрной деятельности, она старалась не попасться на глаза, всё время пока я гостил, пропадая от зари и до заката на свекольных грядках или в ячменных посадках.
Дача стояла аккурат возле бобровой запруды. Хатки, похожие на перевёрнутые церемониальные чаши, Карим нарочно не трогал. Жалел их, что ли, не знаю, но летом запруда дико цвела, превращаясь в узаконенный бобрами рассадник комаров. Эти мелкие кровопийцы набивались зудящим облаком в комнаты, делая совершенно невозможным пребывание внутри. Впрочем, снаружи было ненамного лучше. Костёр из еловых веток их отпугивал, но только пока источал смоляные клубы дыма, от которого одинаково плохо было и комарам, и людям. Я находил спасение в полутёмном забарахлённом пространстве чердака. Можно вообразить, что комаров отпугивал неимоверный хаос, царивший всюду, хотя, возможно, причина крылась в колонизации плесневых грибов, атаковавших стопки книг, оставшихся от прежних хозяев. В этих разноцветных бархатистых налётах и мучнистых пятнах была не только букинистика, но и саманная штукатурка, и вечно не просыхающие от дождей палубные доски перекрытий. Отец порывался книги сжечь, но, страдая от бронхиальной астмы, боялся чердака не меньше комариных гарпий.
Лет до десяти Карим навещал нас с мамой, пока, в одну прекрасную весну сильнейший паводок не оставил его вовсе без жилья. Затопило ко всем чертям и дом, и огород, и ракушку с «москвичом». Всё, что я знаю о нём сейчас: он бросил свою буфетчицу (или она его), стал пилигримом, странствует по свету. Иногда до матери долетают его скупые открытки из разных уголков планеты. Я думаю, это он специально, чтобы она завидовала, хотя завидовать-то нечему. Мужику, на секунду, больше полтоса: ни дома, ни угла, бродяжничает где-то. Разве так нормально?
Кстати говоря, моё первое знакомство с шахматной доской случилось ровно как в набоковском романе – на чердаке отцовской дачи. Она отыскалась там же, среди лабиринтов неописуемого бардака, неплохо сохранившейся, но без ладьи и пешки. От скуки спасали книги. Хотя Карим и запрещал к ним прикасаться, я с удовольствием (исключительно из вредности) ослушивался всякий раз, и листал книги в поисках картинок. Иллюстрации стояли в остром дефиците, зато текста всегда было в избытке. Первая книга, осиленная при свете налобного фонарика, изъеденная паразитическими спорами ровно на столько, чтобы не терять тончайшей нити повествования, стала набоковская «Защита Лужина». Мне было девять: меньше, чем герою книги. Единственное, что можно было требовать от автора, и что я получил сполна – редкое чувство присутствия в книге – той самой магии, которой ждёшь от писателя больше всего. В книге писатель обращался к жизни русской эмиграции. Но что тогда я знал об этом? Ровно столько, сколько знал о Коминтерне. Я был уверен: книга о гроссмейстере. Мне нравилось это сложносочинённое, трудновыговариваемое слово. Непременно хотелось, во что бы то ни стало иметь звание шахматного мастера. Гроссмейстер – это даже звучало умно. Как профессор, или магистр.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
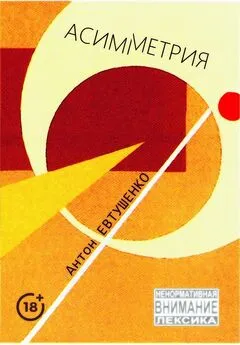

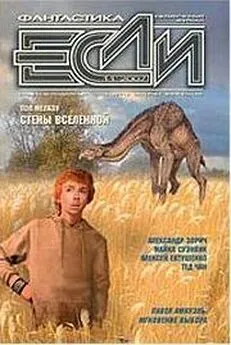

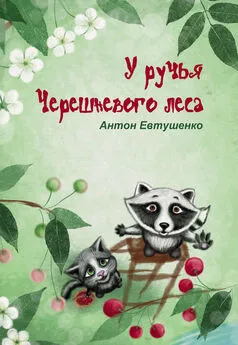
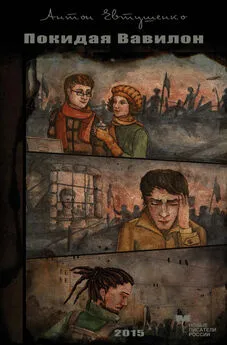
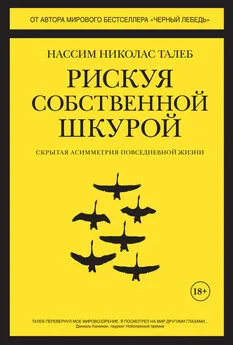
![Сергей Евтушенко - Жребий одиночки [litres]](/books/1060146/sergej-evtushenko-zhrebij-odinochki-litres.webp)