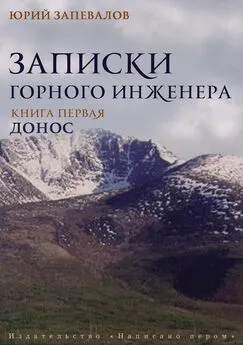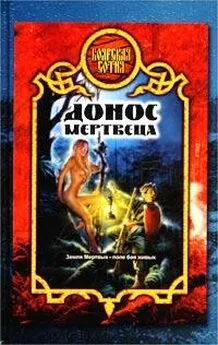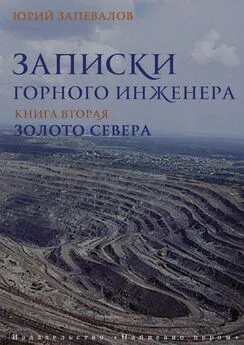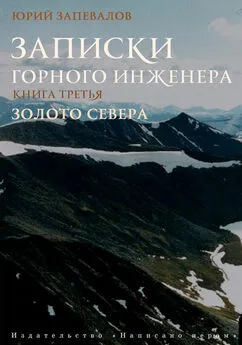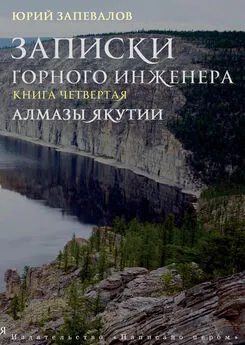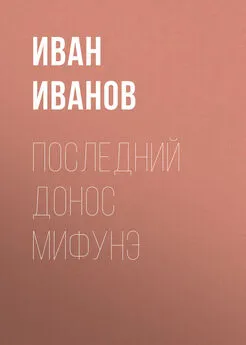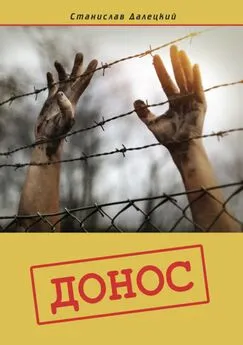Юрий Запевалов - Донос
- Название:Донос
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Запевалов - Донос краткое содержание
Горный инженер. Более сорока лет добывал золото, платину, алмазы в экстремальных условиях Крайнего Севера и Урала. Прошел производственный путь от рабочего до директора Алмазодобывающего Горно-обогатительного Комбината.
К своему 75-летию написал и издал книгу о своём поколении, о своих сверстниках, о своих современниках. О том поколении людей, которые в детстве пережили большую войну, в юности – восстановление страны, в зрелом возрасте – её могущество, а в старости – её разрушение. Эта книга не выдумана. В этой книге – Правда!
Член Союза писателей России, Лауреат литературной премии им. А. П. Чехова, лауреат юбилейной медали «В честь 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина», лауреат литературного конкурса «Золотой диплом» имени А. М. Горького, член Щелковского районного литературного объединения «Слово».
«Почти два месяца катался я по Уральским золотым приискам и рудникам в поисках своего героя. Мне поручила редакция написать очерк о золотодобытчиках. Сам я уроженец Миасса, еще недавно одного из основных Российских центров золотодобычи. «Миасский треугольник» и сегодня самый крупный из найденных в России золотых самородков. В редакции так и сказали – ты потомок старателей, тебе и «лоток» в руки. Я взялся за Миасских «золотарей» – старателей и государственных работников. Одни добывали, как я тогда считал, для себя, другие работали на государство, одни жили с того, что «подфартит», другие имели постоянную и гарантированную зарплату.
То, что я увидел на приисках, меня повергло в журналистский «шок». Полный упадок золотодобычи, неряшество, нераспорядительность, безразличие, полная незаинтересованность в результатах своей работы…»
Донос - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Вы добьетесь финансирования и исчезнете, а мы останемся в долгах и под следствием Прокуратуры.
– Ну, знаете, с такими подозрениями ни одного дела не сделаешь. Давайте, мы вам дадим подтверждение нашего Банка о надежности таких сделок.
– Мне нужно подумать. Да и со своими посоветоваться.
– Конечно. Когда мы можем снова встретиться?
– Позвоните. Телефоны у вас есть. Дня через три.
– Мы очень хотели бы, чтобы Вы взялись за эти дела. Выгодно, без затрат и уж тем более без потерь. Деньги, мы надеемся, Вам все же не помешают?!
В Челябинске я прожил месяц. Встретились с Зоей, к ним я приехал, у них и жил постоянно. Познакомился и подружился с мужем ее – Леонидом. У них недавно родился сын, назвали Володей. Я привез с собой фотоаппарат, были такие широкопленочные фотоаппараты «Смена», для школьников, вот я и упражнялся на младенце. А проявлять и печатать мы учились вместе с Леней. К концу моего гостевого отдыха у нас получались фотоснимки довольно приличного качества.
Через неделю мы уехали на Южный, к тете Шуре, там и жили весь месяц. Леня ездил на работу на автобусе, а Зоя была в декретном отпуске.
Там снова подружились с Володей и всеми пацанами, которые помнили меня еще с давнего, во время отпуска отца по ранению, посещения. Деревенские игры, работа на покосе, река, солнце, полная свобода – я вырос, окреп, а бегать не переставал и в деревне.
Но месяц пролетел быстро, надо возвращаться домой, надо решать, что дальше – учиться или работать. Кроме того, мы договорились с ребятами, с Юрой Авдюковым и Пашей Мараковым, поработать летом на лесопилке. Мы там и раньше бревна катали, обещали взять нас и этим летом.
В Свердловск поезд приходил рано утром, надо было коротать время до вечера и я пошел побродить по городу. Знал я Свердловск хорошо, побывал на стадионе, сходил в кино, а к концу дня ноги сами вынесли меня к музыкальному училищу. Внимательно прочитал я большое объявление о приеме в училище выпускников – семиклассников на разные отделения. Принимали и на вокальное. «Дай, – думаю, – зайду, узнаю условия приема». Сел на скамейку, что у входа, задумался. Ну как пойдешь? Где и на что жить будешь? Чем платить за учебу? Нет, надо ехать домой, заработать деньги – там видно будет.
И так тоскливо мне стало, чувствовал я – если сейчас не решусь, то не решусь никогда Нет, не решился, побоялся голодной и неуютной жизни. И вспоминаю об этом до сих пор.
А дома ждало меня ошеломляющее известие. Отца вызвали в Райком и предложили работать председателем одного из колхозов района. Реабилитировали отца по партийной линии и дали ответственное поручение. Отец уже дал согласие, побывал в колхозе, там его избрали Председателем. Избрали – это конечно условно, тогда избирали всех, кого рекомендовал Райком, но все же общие собрания колхозников проводились, там наиболее активные селяне выговаривались от души, «спускали парок» до следующего собрания.
Семья готовилась к переезду, в деревню Першино. Отцу выделили большой деревенский дом, принадлежащий колхозу, завезли из Режа необходимую мебель, ждали Председателя и надеялись на него.
Шел шестой послевоенный год, жизнь все еще была скудной, в деревне – тяжелой, налоги еще давили деревню, как невесело шутили мужики – платили даже за лишний в хозяйстве топор. Спасал собственный огород и собственная скотина, хотя содержать ее в деревне ох как было не легко. Покосы колхозникам не предусматривались, косили по лесным полянам и в местах, недоступных для колхозных сенозаготовок. Никаких подкормок, комбикормов в то время не существовало, да и покупать, будь в то время даже в продаже эти комбикорма, колхознику не на что. В колхозе зарабатывались трудодни, на которые в конце года не всегда что-нибудь и выделялось, тем более деньги. Колхозник мог получить в те годы чистыми деньгами 10–15 рублей за весь сезон – с такими деньгами не до кормов. Спасала близость городского рынка, где продавали и молоко, и мясо, чтобы затем что-то купить на вырученные деньги. Зарабатывали немного зимой, на лесозаготовках, это было хорошим подспорьем, но не для всех, а только тем, кто попадал на эти лесозаготовки, кому позволяло здоровье.
Мужик в деревне изнашивался быстро – зимой тяжелая работа в лесу, а с наступлением тепла успевай поворачиваться – только посадили и засеяли колхозные поля, управились со своими огородами, поспевали покосы, траву и скосить, и складировать нужно во время, иначе зимой – падеж скота. Управились с покосами, короткая передышка – разные там прополки и окучивания за работу не считались – начиналась уборочная. Это сейчас, с техникой, на полях и народу-то не видно, а в те годы все делалось вручную, на полях полно людей как своих, так и привлеченных с предприятий, школ – уборочная шла шумно, весело, с песнями, шутками-прибаутками, к вечеру, правда, люди еле держались на ногах, уставали жутко, особенно женщины и дети, работающие на колхозных работах с малых лет.
Уборочная порой затягивалась до глубокой осени, до первых холодов, а там зима, короткая передышка до весны, если не считать лесозаготовок, в которых участвовали не все колхозники, а весной новое начало деревенских и колхозных работ – весь сезонный сельский цикл повторяется сначала.
И так годами, десятилетиями, от рождения и до смерти – изнашивался народ быстро. А ведь еще свои огороды, своя скотина – семью-то кормить надо. Вставали в деревне с первыми петухами, а ложились заполночь.
Иногда напьется мужик и клянет эту свою беспросветную жизнь, да деваться некуда, не уедешь, не уйдешь, паспорта тогда колхозникам не давали. Живи и работай, раз в деревне родился. Вырваться из колхоза могли немногие – пришел парень из армии, мог и уйти из деревни. Или после десятилетки, если поступил учиться в институт или техникум, но таких были единицы на несколько деревень, не всем в деревне удавалось и семь-то классов закончить, какая уж там десятилетка, а кто семью кормить, обрабатывать будет?
По тогдашним правилам семья избранного Председателя колхоза обязана была вступить в члены колхоза, а это значит – каждый совершеннолетний член семьи, а ими в колхозе считались лица старше шестнадцати лет, должен заработать в колхозе 300 трудодней, могут работать не все, но чтобы в сумме трудодней за год на всю семью получилось по закону. Нас было четверо, совершеннолетних двое – мы с матерью – значит мы к концу года должны были заработать 600 трудодней. И зарабатывали!
Отцу, как председателю, сразу назначались трудодни, как зарплата, в семейный зачет эти трудодни не засчитывались.
Я же каждое лето работал в колхозе, начиная с покосов и заканчивая уборочной. Мешки с зерном возил от комбайна, причем и грузил, и разгружал эти мешки сам, затем овощи и все, что там созревало и убиралось. Зарабатывал я в год и за мать, и за себя. Так что, мать не работала, занималась хозяйством, торговала на базаре осенью овощами, тем и жили. Правда вскоре правление колхоза приняло решение платить Председателю зарплату деньгами. И определили эту зарплату в полторы тысячи рублей! Конечно, семье сразу стало легче.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: