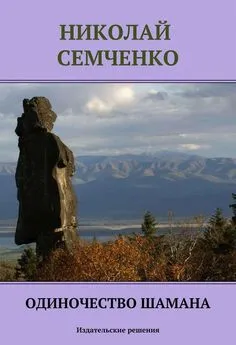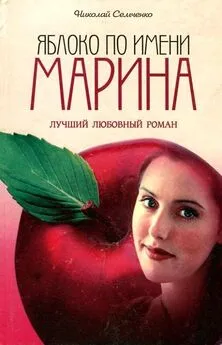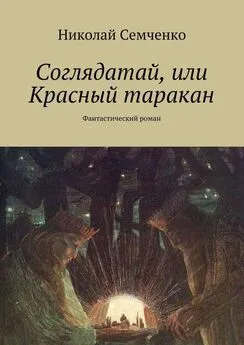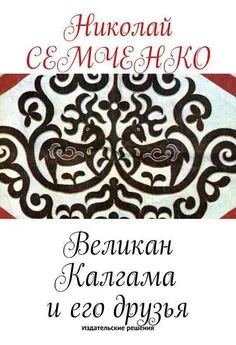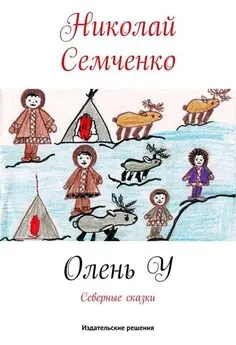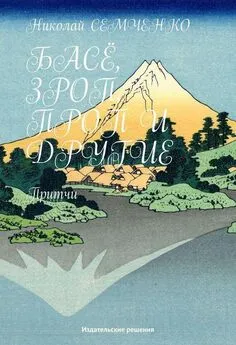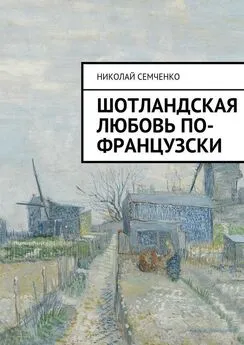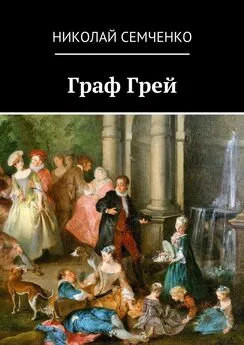Николай Семченко - Одиночество шамана
- Название:Одиночество шамана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ридеро»78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4474-0131-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Семченко - Одиночество шамана краткое содержание
«Одиночество шамана» автор первоначально хотел назвать так: «Лярва». Это отнюдь не ругательное слово; оно обозначает мифологическое существо, которое, по поверьям, «присасывается» к человеку и живёт за его счёт как паразит.
«Одиночество шамана» – этнографический роман приключений. Но его можно назвать и городским романом, и романом о любви, и мистическим триллером. Всё это есть в произведении. Оно написано на документальной основе: информацию о своих «шаманских» путешествиях, жизни в симбиозе с аоми (традиционно аоми считается духом-покровителем) и многом другом предоставил автору 35-летний житель г. Хабаровска. Автор также изучал самостоятельно культуру, обычаи и представления о мире народа нани, живущего на берегах великой дальневосточной реки Амур (нанайцы называют себя именно так).
У романа есть продолжение «Путешествие за собственной тенью, или Золотая баба». Это, если можно так выразиться, «этнографо-мистический триллер».
Одиночество шамана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Спор дошёл до высшей точки кипения: казалось, оппоненты, исчерпав аргументы, вот-вот уже и руки в ход пустят, но тут автобус въехал в село. И, как по команде, дебаты внезапно прекратились. Люди замолчали и, как ни в чём не бывало, с любопытством глядели в окно, зевали, собирали вещи, чтобы поскорее выйти из автобуса, как только он остановится. Казалось, никто и не помнит ни о тигре, ни о странном карапузе.
– Слава богу, без приключений доехали, – шофер довольно улыбнулся. – Дорога-то давно не ремонтировалась, который год обещают её заасфальтировать, эх!
– Отремонтируют! – радостно оживилась одна из пассажирок – полная нанайка неопределённого возраста в теплой серой кофте. – Туристический комплекс начали строить – говорят, даже иностранцев к нам возить станут. Музей скоро откроют, тоже народ в него поедет. Как же без дороги-то? Построят и дорогу!
– Дай-то бог, – вздохнул водитель. – Глядишь, и новые машины нам выделят, а то ездим на разбитых драндулетах…
И никто уже не упоминал о происшествии на дороге.
– А что, тигры-то часто на трассу выходят? – решился напомнить Андрей.
– Какие тигры? – удивился водитель. – Да ты что? Человек давно всех зверей тут распугал. Тигры если и водятся, то в глухой тайге.
Ясно, подумал Андрей, из памяти пассажиров стёрлось удивительное происшествие, свидетелями которого они невольно стали. Малыш, видно, постарался. Ему совершенно не нужно, чтобы люди помнили о виденном. Но, однако, странно: почему одному-единственному очевидцу он всё-таки сохранил память?
– Это ведомо только ему, – уклончиво ответила аоми. – Если всё помнишь – значит, так надо. А почему так надо – всё равно не поймёшь.
Андрею не нравилось, что Ниохта, поначалу обещавшая объяснять ему всё непонятное, постепенно забыла своё слово и даже, напротив, что-то слишком часто стала язвить и многое недоговаривать. Аоми постоянно подчёркивала своё превосходство над ним, обыкновенным человеком, который только по её прихоти может войти в число избранных, а может и не войти – смотря как себя поведёт. «Будто бы я сам напросился к ней в ученики!» – злился Андрей, но вида, однако, не показывал.
Он довольно быстро нашёл дом, в котором жила бабушка Дачи – одна из двух работниц бригады по заготовке дикоросов (так официально именовалось это подразделение кафе «Какао»). Она оказалась невысокой, улыбчивой, в круглых очочках, которым, наверно, было лет сто: оправа, сделанная из серой пластмассы, потрескалась, дужки перемотаны черной изолентой и держались на ушах исключительно при помощи платка, повязанного поверх них. По одной линзе затейливым зигзагом шла глубокая трещина, другую покрывал зеленоватый налёт.
Заметив недоумённый взгляд Андрея, бабушка Дачи шмыгнула носом:
– Очки от мужа мне достались. Культурный был, всегда книжки читал. А я и без очков вижу. Но не пропадать же добру, вот и нацепила их. Так, вроде, тоже культурная.
Дачи сразу повела его к навесам, под которыми сушились травы. По дороге объяснила: недели две назад поднялся сильный ветер, разбесился будто это сам келе 44 был, сорвал с построек часть крыши, в клочья растрепал полиэтиленовые занавески, и в довершение всех бед припустил сильный дождь – намочил уже высушенное сырьё, пришлось его выбрасывать.
Старушки сами кое-как подлатали сушилку, накрыли её толем, но, видно, он для этих дел не годится: на солнце от него густые испарения поднимаются – трава впитывает их и дурно пахнет. Попробовали сушить дикоросы на чердаке, так туда умудрились пробраться воробьи – загадили всё.
– Беда! – вздохнула Дачи. – Надо крышу делать.
Тут подоспела её напарница, бабушка Дашка. Сначала Андрей решил, что ослышался – как-то несолидно пожилую женщину так звать-величать, но та засмеялась:
– А! Когда родители пришли в сельсовет имя мне давать, сказали: «Пусть Дашкой будет». А Дашка в селе была тогда одна – русская красавица. На самом деле она, конечно, Дарьей по паспорту-то величалась, но все говорили: Дашка да Дашка. Так меня и записали в метрике – Дашка Ахтанка. Потом уж ничего сделать было нельзя. Да и ладно, – она махнула сухонькой рукой. – Хорошее имя, весёлое!
Дашка подтвердила рассказ своей напарницы, простодушно посокрушалась, поохала: старались, мол, старались, столько всяких травок назаготавливали, даже хато-охто 45, подумать только, нашли и высушили, и всё пропало!
– Да что ж вы толком-то ничего экспедитору не объяснили? – удивился Андрей. – Давно бы с ремонтом вам помогли!
– А он траву забирает не отсюда, а из дома Дашки, – объяснила бабушка Дачи. – Ничего сам не видел. И нас, однако, не спрашивал ни о чём.
– Да как бы он спросил, если ничего не знает? – недоумевал Андрей. – Надо было самим обо всем рассказать.
– Всё село знает, а он не знает, как же так? – искренне всплеснула руками Дашка. – Раз он молчит, мы тоже молчим. Думаем: зачем лишние слова говорить?
Старушки наивно полагали: городской человек – особый человек, всё знает и понимает, большой, наверное, начальник, серьёзный такой, и на дорогой машине всегда приезжает, всё время на часы смотрит – спешит, видно. Экспедитор действительно торопился: на рыбацкой тоне неподалёку от Сакачи-Аляна его ждали местные мужики из артели, промышлявшей на законных основаниях калугу. Не смотря на то, что вылов этой рыбы запрещён, хитроумные дельцы придумали способ, как обойти закон. В городе Ха существует научно-исследовательский рыбохозяйственный институт: тамошние ихтиологи, ясное дело, должны как-то изучать рыб Амура, и для этого придуман так называемый научный лов. Институт получает разрешение на добычу калуги, причём, в таких количествах, что ихтиологам всего мира материала хватило бы для исследований на год, а то и больше. Но всегда находятся лукавые обоснования, почему ценной рыбы требуется на опыты так много, а её избытки идут на продажу – якобы в интересах всё той же науки, которую недостаточно финансируют.
Институт заключил договор с местной рыболовецкой артелью на научный лов калуги. Причем, дело обставили так, что получалось: ихтиологи облагодетельствовали коренное население, для которого рыбалка – исконное занятие и, следовательно, институт спосбствует развитию традиционных промыслов малых народов. Но рыбаков эти заявления грели мало, им больше нравилось другое: имея на руках официальные документы на промысел, они ловили калуги, сколько хотели. Вот и экспедитор кафе «Какао» договорился с ними на поставку свежей рыбы для городских гурманов. Этот скоропортящийся товар надо было доставить в Ха как можно скорее, и потому он всегда торопился, не удостаивая травниц долгими разговорами.
Андрей же разговаривал с ними долго. Бабушка Дачи ради гостя из города расстаралась стол накрыть, по её понятиям, щедрый: рыба вареная, жареная, вяленая, свежая картошечка, посыпанная укропом, баночки с соленьями-вареньями, пышные пампушки, щучья икра – густая, на солнце янтарем мерцающая и, конечно, чай из трав.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: