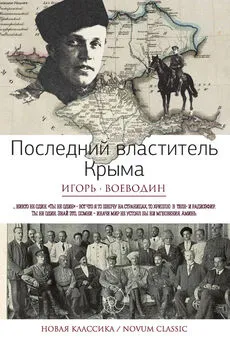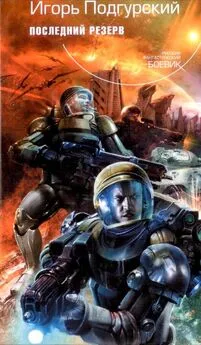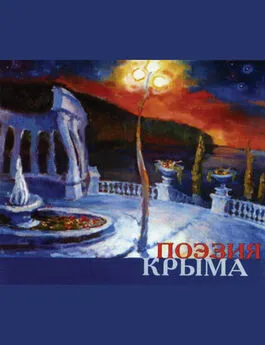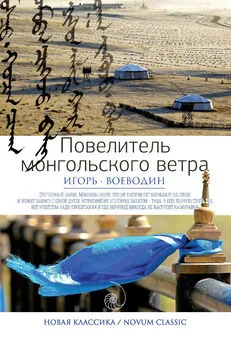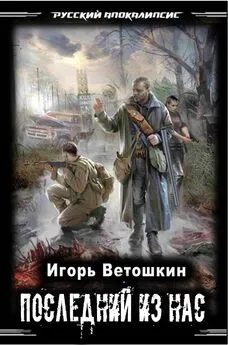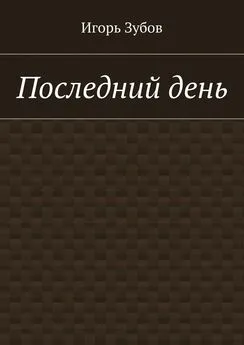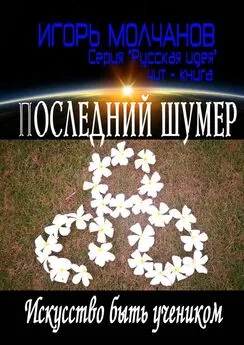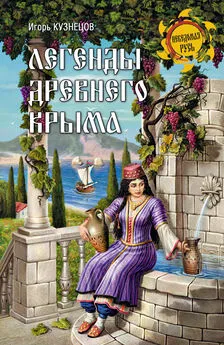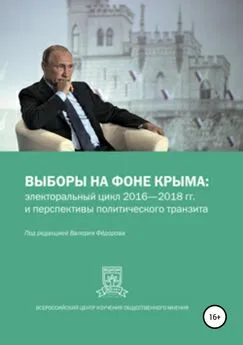Игорь Воеводин - Последний властитель Крыма (сборник)
- Название:Последний властитель Крыма (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «РИПОЛ»15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-08028-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Воеводин - Последний властитель Крыма (сборник) краткое содержание
Что объединяет эти две истории – белого генерала, кумира юнкеров, водившего батальоны в психические атаки, и никому не известную девушку из заштатного сибирского городка, которую в округе считают сумасшедшей и безжалостно травят, пользуясь всеобщим равнодушием?
Прежде всего то, что истории эти не выдуманы…
Надежда. Потому что, если вы прочли эту книгу, значит вы – неравнодушный человек.
Нетеплохладный.
Следовательно, никто не один.
«Ты не один» – вот что я то шепчу на страницах, то хриплю в теле– и радиоэфир.
Ты не один.
Знай это, помни – иначе мир не устоял бы ни мгновения.
Игорь Воеводин
Последний властитель Крыма (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Генералы Врангель, Хольсмен, Кутепов и полковник Тихий были недвижимы. О чем думали Тихий и Врангель, понять было нельзя. Хольсмен улыбался приветливо, а Кутепов просто сиял. Чувствовалось, что он верил каждому слову гостя.
…Потом, на приеме, на который явилось немало высших чинов эмиграции, Якушев с бокалом «Дом Периньон» обходил присутствовавших. Его приятная, как у Чичикова, улыбка, мягким светом ложилась на обветренные, иногда в шрамах, лица старых рубак. Все были во фраках, в основном взятых напрокат В петлицах некоторых сияла розетка георгиевских цветов знака первопоходника.
Полковник Тихий стоял, как всегда, чуть в стороне. Никаких наград он не носил, вид его, как всегда, был невзрачен, он не бросался в глаза ни позой, ни фигурой, но Якушев знал, какую роль играл полковник при Врангеле. И, улучив момент, подойдя к Тихому, он едва слышно проронил:
– А вам привет из Москвы от вашего старого сослуживца…
Полковник Тихий внешне не изменился, только почувствовал пустоту и холод внутри.
– И что же мне он просил передать? – так же едва разборчиво спросил он.
– Обнимаю и целую, – проговорил посланный из Москвы, и, звонко чокнувшись бокалом о бокал полковника, отошел.
20 июля 1925 года, Тишинский рынок, Москва, Россия
Нина, задыхаясь, рвалась сквозь толпу. Филер едва поспевал за ней, как вдруг, остановившись и выпучив глаза, завопил:
– Украли! Ах, боже мой! Кошелек украли!
Трое беспризорников врассыпную кинулись от него, толпа заулюлюкала, завизжала, заревела, и Нина нырнула между рядов за опять схватившей ее за руку цыганкой.
…В задней, скрытой от глаз любопытных комнате сайкинского трактира, популярного у извозчиков и – мало кто знал – у воров, было полутемно. Плясовая из общей залы сюда еле доносилась. На столе весело пел самовар, горой лежали пряники, стояла сахарная голова, чуть поблескивали – не зловеще, а уютно, по-домашнему – щипцы.
Нина прижала руки к груди, ловя готовое выскочить сердце. Человек, сидевший вполоборота к ней, встал, повернулся, и Нина без чувств рухнула на руки цыганке и кому-то рослому, вошедшему следом.
– Ах, боже мой, Нина Николаевна! Ну, можно ли так? – Александр Де Ла Форе, бывший адъютант ее мужа, а ныне знаменитый налетчик Саша-Улан, стоял перед ней на коленях. Нина лежала на лавке, около нее суетились.
– Саша… Голубчик… Живой! – Нина плакала и смеялась.
Он сжимал ее руки и покрывал их поцелуями, и никто, никто в полутьме как бы не заметил, как, на миг отвернувшись, он тыльной стороной ладони вытер глаза.
…Солнце едва пробивалось сквозь пыльное окошко, завешенное шалью. Лещинский, войдя и встав у дверей, многозначительно кашлянул.
– Да, да, сейчас, – кивнул ему Ла Форе.
– Нина Николаевна, умоляю вас, уговорите Якова Александровича! Это – последний шанс, вам здесь не выжить.
Нина, печально и с лаской глядя на него, ответила:
– Нет, Сашенька… Он не согласится. Я и так знаю, что он ответит: «У каждого свой крест»…
Говорить было больше нечего. Лещинский и цыганка с тревогой подавали знаки – на рынке началась облава, и было понятно, что тревогу поднял топотавший за Ниной филер и что искали явно не его кошелек.
– Прощай, Саша! – сказала Нина и, перекрестив его, опустив голову вышла за цыганкой. Она будто состарилась враз, будто согнулась, будто сгорбилась и шла еле-еле.
Ла Форе смотрел ей вслед через чуть отодвинутую шаль, и слезы, уже не сдерживаемые, не контролируемые, текли по его лицу.
…А маладова уркагана
Нясут с разбитой галавой, —
доносилось из кабака.
30 августа 1925 года. Ялта, Крым, Россия
Сухогруз «Товарищ Урицкий» стоял под погрузкой бараньих шкур.
Нещадное южное солнце заливало и порт, и городок, и море, и горы.
Можно было раствориться в этом мареве. Склянки пробили три часа пополудни, погрузка заканчивалась, и «Урицкий» готовился к отплытию в Гавр.
К пограничнику и особисту, зевавшим у трапа, небрежной походочкой приблизился невысокого роста молодой человек в щегольских белых брюках, в сетке, с потертым саквояжем в руках.
– Фамилия? – спросил пограничник и потянулся к матросским книжкам в ящичке.
– Иванов, – пожав плечами, улыбнулся подошедший. Какое-то неясное предчувствие кольнуло чекиста. Может, потому, что совсем не походил на матроса подошедший, может, потому, что явно барским, скорее интеллигентским – с таким ходили акушеры и присяжные поверенные – был саквояж, а главное – глаза. Глаза смотрели с дерзостью, совсем не так, как заискивающе, приниженно засматривали в глаза на контроле моряки загранплавания.
– …Черт… Да где он? – недоуменно спросил пограничник, роясь в паспортах, как вдруг в брюхо особисту уперлось дуло нагана.
– Ша, сявка… Стой, не вертухайся! – проговорил подошедший, и трое подскочивших, дотоле скучавших неподалеку молодцов закрыли их от взглядов любопытных. Впрочем, никто и не любопытствовал.
Ла Форе держал под прицелом чекиста, Лещинский – пограничника, а девять человек банды с чемоданами и ящиками один за одним поднимались по трапу. Они рассеялись по пароходу, скрылись, и через несколько минут невысокий крепыш, подойдя к фальшборту, подал знак, что все нормально.
– Быстро… на борт, – вполголоса скомандовал Лещинский, как вдруг особист упал на колени и заголосил:
– Миленькие… Родненькие! Не убивайте!
Как громом поразило праздную толпу на пирсе, Лещинский, пнув ногой чекиста, бросился по трапу вверх, за ним – Ла Форе. Пограничник и чекист пустились бежать, и вдали засвистел милицейский свисток.
– Отдать концы! – загремел с мостика Юра-капитан, когда-то действительно ходивший в море, и корпус «Урицкого» задрожал мелкой дрожью, отваливая от причала. На корме и на носу, достав из ящиков «льюисы», залегли налетчики, и, как только в воротах показался автомобиль с милицейскими, хлесткая очередь одного из пулеметов ударила вдоль борта.
Капитан, повинуясь нажиму нагана меж лопаток, командовал отчаливанием. Команда, за исключением машинного отделения, была заперта в трюме. Редкие выстрелы из винтовок милиционеров не могли наделать вреда пароходу, и «Урицкий», презрев все законы ошвартовки, отвалив от причала, направился в море.
6 июня 1927 года, Карельский перешеек, финско-советская граница, окрестности Ленинграда, Россия
…В предрассветной мгле чуть угадывались таявшие в тумане деревья и кустарники. Три человека в дождевиках, с сидорами за плечами, вышли из леса и направились к железнодорожной станции Левашов. Солнце уже стояло над горизонтом, когда первый поезд подошел к станции. Никто из ранних пассажиров не обратил внимания на троих молодых людей, они ничем не отличались от остальных пассажиров с портфелями и мешками. Сев у окна, один из них достал хлеб и колбасу, и все принялись за еду, запивая сухомятку ядреным квасом, купленным на станции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: