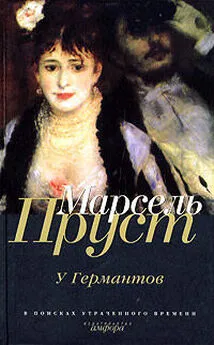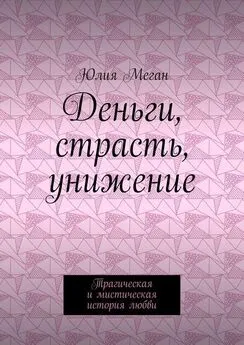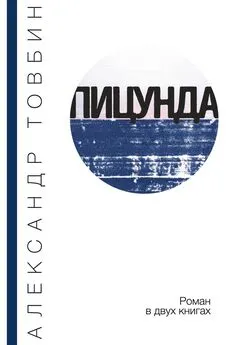Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио
- Название:Германтов и унижение Палладио
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Геликон»39607b9f-f155-11e2-88f2-002590591dd6
- Год:2014
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-93682-974-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио краткое содержание
Когда ему делалось не по себе, когда беспричинно накатывало отчаяние, он доставал большой конверт со старыми фотографиями, но одну, самую старую, вероятно, первую из запечатлевших его – с неровными краями, с тускло-сереньким, будто бы размазанным пальцем грифельным изображением, – рассматривал с особой пристальностью и, бывало, испытывал необъяснимое облегчение: из тумана проступали пухлый сугроб, накрытый еловой лапой, и он, четырёхлетний, в коротком пальтеце с кушаком, в башлыке, с деревянной лопаткой в руке… Кому взбрело на ум заснять его в военную зиму, в эвакуации?
Пасьянс из многих фото, которые фиксировали изменения облика его с детства до старости, а в мозаичном единстве собирались в почти дописанную картину, он в относительно хронологическом порядке всё чаще на сон грядущий машинально раскладывал на протёртом зелёном сукне письменного стола – безуспешно отыскивал сквозной сюжет жизни; в сомнениях он переводил взгляд с одной фотографии на другую, чтобы перетряхивать калейдоскоп памяти и – возвращаться к началу поисков. Однако бежало все быстрей время, чувства облегчения он уже не испытывал, даже воспоминания о нём, желанном умилительном чувстве, предательски улетучивались, едва взгляд касался матового серенького прямоугольничка, при любых вариациях пасьянса лежавшего с краю, в отправной точке отыскиваемого сюжета, – его словно гипнотизировала страхом нечёткая маленькая фигурка, как если бы в ней, такой далёкой, угнездился вирус фатальной ошибки, которую суждено ему совершить. Да, именно эта смутная фотография, именно она почему-то стала им восприниматься после семидесятилетия своего, как свёрнутая в давнем фотомиге тревожно-информативная шифровка судьбы; сейчас же, перед отлётом в Венецию за последним, как подозревал, озарением он и вовсе предпринимал сумасбродные попытки, болезненно пропуская через себя токи прошлого, вычитывать в допотопном – плывучем и выцветшем – изображении тайный смысл того, что его ожидало в остатке дней.
Германтов и унижение Палладио - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Да, вспомнил: к завтраку в гостинице подавали ежевичный джем; славно было бы там позавтракать с Катей, как мечтала она с ним убежать во Францию, убежать – смеялась – «со своим французом».
Под возвращавшую молодость песенку Сержа Генсбура сновала официантка в крахмальном чепце и бело-синем переднике, завязанном на талии бантом; а за соседним столиком какая-то краснощёкая нечёсаная матрона в пёстром балахонистом платье с утра пораньше опохмелялась: глушила анисовую настойку, добавляя в большую гранёную рюмку миндальное молоко.
Неспешный ритм жизни, заведённый от века, и – оборудованные автостояночки, интернет-терминалы, спутниковые антенны. И как всегда – воздушная выпечка, душистое сливочное масло, простокваша с жёлтой корочкой, ежевичный джем, кофе… А в пышную и плотную кофейную пену ещё, помнится, чёрный шоколад на специальной тёрочке натирали; и ко второй чашке кофе – не международная ватрушка с ванилью, а региональное лакомство: клин горячего песочно-рассыпчатого пирога с засахаренными каштанами.
Кофе… Не пора ли пить кофе?
Пора, давно пора.
И, как повелось с утра, докончив этот сеанс интроспекции, он выпьет кофе с ломтиком разогретого зернового хлебца с сыром – или с рассыпчатым печеньем?
Нет, сегодня всё-таки – сделал выбор – хлебец с сыром.
Но варить кофе в джезве он сегодня не будет, не позволит он себе расслабляться; никаких гедонистских медлительных ритуалов со вскипаниями, вздуваниями коричневой пены, помешиваниями специальной самшитовой палочкой, нет, сегодня обойдётся он растворимым кофе и – за дело!
А Лида? Лида-Лида, что с ней? Почему он столько думал о ней, проснувшись? Варит ли она по утрам кофе в такой же, как у него, джезве?
Когда-то в Гагре он и Лида купили себе одинаковые, кустарём-чеканщиком изготовленные, будто бы вызолоченные изнутри медные джезвы в сувенирном киоске… И самшитовые палочки в прозрачных пакетиках там же себе купили. Киоск был под мостом-эстакадой, перекинутой через Жоэкуарское ущелье, над головами дрожали балки, гудел и грохотал поезд.
Так, ЮМ, благообразная маска сдержанности прячет на людях твой несносный характер, его целеустремлённый холод.
Так?
Кстати, пока стоял по утрам перед зеркалом, и кое-какие мыслишки посещали, причём, бывало, мыслишки неординарные – невольно рассмеялся; да, лёгкость мыслей необыкновенная! В позапрошлом году, тоже весной, перед этим вот зеркалом, задумал он как раз «Портрет без лица»… Так, нос, безукоризненный нос, по-прежнему прям, ноздри – нервные, по-прежнему красиво и энергично вырезанные, а щёки, по-прежнему не знавшие пергаментной искушённости, вдруг ещё и обрели плотность, да, здоровую желанную плотность под слоем тончайшей бронзы. Когда-то заглянул в дрожавшее зеркальце, которое Липа держал в подрагивавшей руке: в том зеркальце скорбно считала бессчётные морщины свои Анюта… А он, вопреки годам своим, догнавший уже Анюту по возрасту – вполне устойчивый в зеркале, неподвластный отражательной дрожи; и у него-то на коже – внимательно всмотрелся, как если бы изучал структуру эпителия под микроскопом, – не обнаружить и намёка на мелкую сеточку морщин, их зачатков не найти было даже у остреньких уголочков рта; морщинки появлялись только от мимического усилия, если скривиться, будто раскусил что-то кислое-кислое. Он себе это тут же продемонстрировал: задрал верхнюю губу, и появились морщины на переносице, растянул рот и… И – да, да! – даже завидный оттенок загара не смылся. Он был доволен собой – никаких признаков дряблости; лишь продолговатую неглубокую розовую канавку заметил он на правой щеке – слабый отпечаток складки на наволочке. И цвета глаз не замутил возраст – большие и до пытливости внимательные глаза, многооттеночно-серые, с рыжеватым ореолом вокруг зрачка и всё ещё прозрачные, могли сузиться, заставив радужную оболочку блеснуть в минуту напряжения сталью, или совсем уж неожиданно загореться глубинным, синим-синим, как у мамы, огнём… Сколько же столетий этим зажигательно-синим вспышечкам, протянувшимся, словно негасимая цепь генетических сигналов, от Агнессы Сорель до мамы?
Коронация в Реймсе, два исходных, отправлявших гены в путешествия по векам, синих огонька в полутьме Собора…
Вновь рассмеялся – через годы, через расстояния…
Кстати – машинально вспоминал – Реймс – это Шампань, а в Шампани родился прадед: подарил маме фамилию Валуа, наделил синими огоньками…
Закольцевалось сознание?
И он же, закольцованный-заколдованный круг сознания, описывает пространство замысла?
Вновь принялся себя разглядывать в зеркале. Да-а, мой дорогой несравненный ЮМ, что-то маниакальное усиливается в тебе, настырно проступает сквозь благообразную маску, разве не так?
А из Реймса – у северного портала Собора не зря ему напутственно улыбнулся каменный ангел – он тогда вернулся в Париж, и тогда же, в день возвращения, в зале Лувра, покачав в очередной раз головой у приписанного Тициану «Сельского концерта» Джорджоне, он оглянулся – на противоположной стене висел гигантский Веронезе, «Брак в Кане»… Краски «Брака в Кане» – пишут знатоки – потускнели, а всё равно, как кажется, – нереально-яркие; и как же удивительно, и как естественно-объяснимо всё это. Направился тогда к многофигурному полотну Германтов, чтобы повнимательнее рассмотреть великую троицу живописцев, изображённых под видом музыкантов на переднем плане полотна. Ничего новенького ты, сверхноватор от искусствоведения, ты, концептуалист Германтов, помещая старые произведения в нынешний контекст, хотя за такую вольность и навешивают на тебя всех собак, не изобрёл: сплошь и рядом ведь и живопись Ренессанса строилась на вольном переносе евангельских сюжетов в будущее, то есть в собственные века-времена художников, в данном случае – в шестнадцатый век. Фантастика! Вот они, вечно живые герои-баловни венецианского театра, в фокусе вроде бы библейского, но многолюдного и по-венециански пышного пира. О, они, играющие главные роли, ситуативно и композиционно выделившись, объединившись в группу музыкантов, вовсе не аккомпанируют радостно пирующим вокруг них актёрам из аристократической массовки, они – солируют! Справа в шикарном огненно-алом одеянии – Тициан с огромным музыкальным инструментом, похожим на современный контрабас, в центре – Тинторетто, причём скромно одетый, ибо не был он падок на нарядную яркость, слева – сам Веронезе в белом, будто бы в складчатой мантии или тоге, с решительно выставленной вперёд ногой; Веронезе и Тинторетто мелодично пиликают на своих виолах да браччо, но тут и Тициан по-хозяйски берёт смычком властно-басовитый аккорд. А чуть сзади, за монументальным Тицианом – не Пьетро ли Аретино собственной персоной? Как же без него! Да и кого же из венецианских знаменитостей нет на том престижном пиру – никто не забыт, не обойдён, не иначе как Веронезе лавры гигантомана Глазунова, воспевателя исторических русских фигур, картинно сбивавшихся по воле кисти его в могучую кучу, не давали покоя. Шутка. Но не удивительно ли – подойдя к громадному веронезевскому полотну и всё ещё улыбаясь, продолжил размышления свои Германтов, – всего год с небольшим миновал после того, как Веронезе окончил фреску в вилле Барбаро, а по манере письма у вольной полистилистики пространственной фрески той мало общего с кондовым «Браком в Кане», пожалуй – ничего общего, это – будто бы полюса. И ещё парадокс: какую роскошную, словно возжелавшую превзойти вмиг все вместе взятые античные колоннады Рима архитектуру выдумал и возвёл Веронезе для «Брака в Кане», а вот в вилле Барбаро, уже не на полотне, а в каменно-материальной натуре, взял да закрасил сплошняком, живого места не оставив, «чистую» архитектуру Палладио.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: