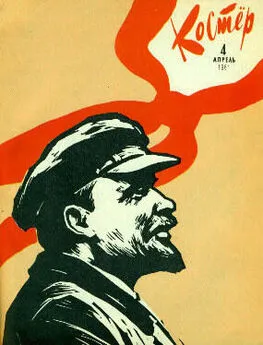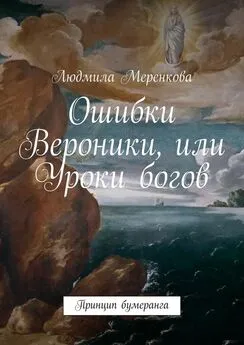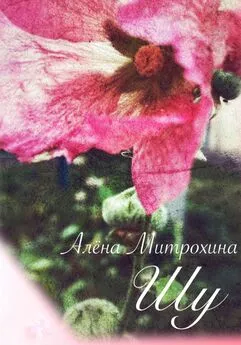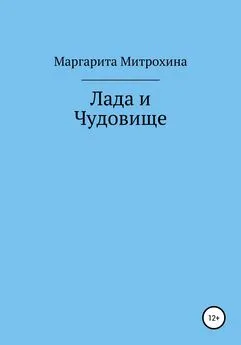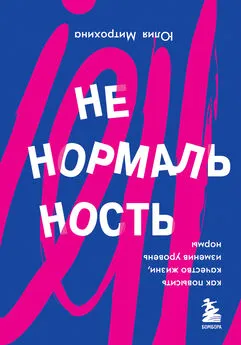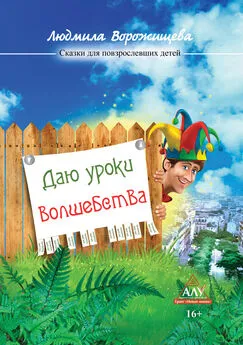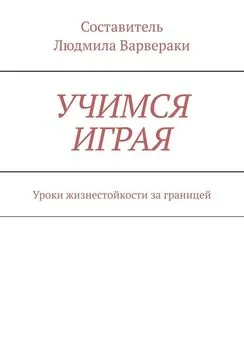ЛюдМила Митрохина - Уроки тьмы
- Название:Уроки тьмы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ПЦ Александра Гриценко»f47c46af-b076-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906784-79-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
ЛюдМила Митрохина - Уроки тьмы краткое содержание
Книга Людмилы Митрохиной «Уроки тьмы» включает в себя полный текст книги «Золотое сечение судьбы», освещая жизненный и творческий путь незрячего художника. Книга затрагивает темы как художественно-эстетического плана, так и морально-этического, через трагическую судьбу ослепшего художника, сумевшего преодолеть тотальную слепоту, принять её как неизбежность, чтобы посвятить себя полностью творчеству и спорту, открыв вторую удивительную жизнь в пространстве тьмы. В книгу также включены рассказы о людях трудной судьбы, о бездомной собаке, дневниковые записи «Мыслей ни о чём», а также затронута тема современных жизненных и нравственных проблем городской женщины в монопьесе «Протечка» и поэме «Исповедь гардеробщицы». Творчество автора направлено на гуманность, человеколюбие и духовную поддержку тем, кто в ней нуждается.
Уроки тьмы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Боже мой, что это было за жуткое время 90-х годов, всё рушилось в жизни и в сознании, не на что и не на кого было опереться, кроме своей семьи. Кому верить? За кем идти? Как выжить? – вспоминал Олег.
Распад Советского Союза, вал противоречивой информации, крах банков, безработица, банкротство предприятий, страх нищеты и потеря стабильности приводили к хаосу в сознании людей. Криминальная приватизация разделила общество на бедных и богатых. До сих пор у него валяется ваучер – позорный символ всенародной драмы, приведшей к параличу все производства. Бывшая партийная элита легко овладела национальными богатствами страны, забрав почти задаром у обнищавшего народа всё, что можно, не гнушаясь детскими садиками, пионерскими лагерями и общежитиями, обделяя и так обездоленных. Всё народное как-то тихо, невзначай стало частным. Состояние разрухи пронзило армию, науку, образование и поставило безопасность страны в прямую зависимость от цены на нефть и газ на мировом рынке. Мы им – нефть и другие ископаемые, а они нам – ножки Буша. За чертой бедности оказалось более половины населения. Началось массовое бегство от нищеты на Запад учёных, деятелей культуры, технической интеллигенции. В «Леннаучфильме» и на Ленинградском телевидении начались сокращения, реорганизации, простои в работе, внедрение самофинансирования, поиск финансовых магнатов, заказчиков. Даже с надомной работой инвалидов ВОС возникли затруднения. Спасала семья. А одинокие больные люди в растерянности прятались на своих квадратных метрах под оглушительные крики разошедшихся демократов.
Именно в этот сложный период остатки зрения еле-еле теплились в нём сужающимся мутным полем с добавлением ко всему прочему прогрессирующей глаукомы. Он знал, что надо что-то делать, искать пути достойного существования, вернуть творчество в любой форме, иначе полный тупик, и бездействие приведёт к жизненному краху. Даже этот жалкий остаток зрения казался ему великим даром. Умом понимал, что болезнь пожирает свет, подталкивает его всё ближе и ближе к тьме, а в душе теплилась надежда на чудо. Может быть, вот сейчас всё замрёт на этой точке, болезнь отступит и оставит ему хотя бы это крошечное затуманенное окошечко белого света…
Болезнь росла и взрослела вместе с ним, она поселилась и жила в нём каким-то неведомым и неуловимым существом, непредсказуемым в своих действиях. Он сроднился с ней, пытаясь понять, отчего ей лучше, отчего хуже, думал, как с ней справиться, как заключить хотя бы временное перемирие, чтобы она угомонилась: занимался спортом, вёл правильный здоровый образ жизни, активно жил и работал. Но так и не смог за всю жизнь пробиться к ней ни он, ни один из лечащих его врачей.
Олегу показалось, что он мыслит вслух. Он не заметил, что плёнка вращалась впустую, и стал говорить:
«В том же 90-м году я пришёл первый раз в студию изобразительного искусства, которая находилась в Доме культуры имени Шелгунова на Петроградской стороне. Для незрячих людей он стал вторым домом. Работало множество кружков, библиотека с читальным залом, по воскресеньям проводились концерты, вечера, праздники. Придя в художественную студию, я был потрясён тем, что увидел. Неужели тотально слепой человек мог выполнять такие вещи! В основном занимались лепкой. Я познакомился с работами Тамары Куренковой, Ларисы Павловой, с большими впечатляющими объёмными портретами Анатолия Кончакова, слепого со школьной скамьи, с темперными яркими иконописными работами Наташи Селивановой с остатком зрения, Володи Божанова и других. Особенно потрясли работы Куренковой. Она полностью потеряла зрение в школьные годы, училась в школе для незрячих детей. Тамара в основном работала с глиной, делала мелкую пластику декоративных направлений со сказочными сюжетами. Я не мог поверить, что эти удивительные художественные работы были выполнены незрячим человеком. Я как художник считал в то время, что это нереально. Внутренне меня это подтолкнуло.
Бросился искать литературу, чтобы понять тайну творчества слепого. Кроме книги Б. Розова «К незримому солнцу» о первом незрячем художнике России Василии Нечаеве и книги Г.М. Кустова о Лине По я ничего не нашёл. Всё шло от преподавателей и от таланта учеников Юрия Алексеевича Нашивочникова, который тридцать лет своей жизни посвятил изобразительному искусству незрячих художников, создавая для них свои методики, благодаря которым растёт мастерство незрячих, делая их жизнь полноценнее и богаче. Это удивительный художник и человек. В своё время он закончил скульптурный факультет Академии художеств в Петербурге. В начале 60-х годов он стал заниматься преподавательской работой. Не где-нибудь, а в городской школе незрячих детей. Обучая детей изобразительному искусству, он одновременно разрабатывал методику для незрячих художников. Дети делали определённые успехи. В 1976 году при Доме культуры имени Шелгунова открылась изостудия «Художник», которую возглавил Юрий Алексеевич со своими лучшими учениками. Это, пожалуй, была первая студия изобразительных искусств для незрячих художников в Советском Союзе, в которой отрабатывали методики Нашивочникова, осваивали новые материалы, краски и всевозможные техники исполнения. Появились первые выставки в музее Истории Ленинграда, в Академии художеств. К сожалению, Юрий Алексеевич через год после моего прихода покинул студию по болезни. Но первые уроки мастерства по лепке глины я запомнил на всю жизнь, за что я ему очень благодарен.
Всё, что я увидел в студии, – меня ошеломило. Я стал постоянно ходить на занятия, но не знал, с чего начинать. Здесь, в студии, я впервые взял глину в руки, долго её мял, крутил, катал, пытаясь что-то сделать из неё. Но ничего путного не получалось. Чтобы я ни делал – всё ломал и начинал снова. Глина оказалась очень пластичным материалом. Пожалуй, самый удобный материал для незрячих.
В это время свет стремительно угасал у меня в глазах. Я уже не мог смотреть телевизор, читать, а тем более рисовать. В студию я ходил регулярно, не пропуская ни одного дня. Наконец, из-под моих рук вышла первая работа – бюст «Бабуля». Скульптурой в студии занимались двое – я и Кончаков, остальные – мелкой пластикой. На всё лето студийная мастерская закрывалась. Уходя, мы какие-то работы оставляли, а крупные размачивали. В таком виде, без обжига, работы нельзя было оставлять. Вскоре у нас появилась маленькая печечка с небольшой камерой для обжига.
В это же время к нам пришёл новый преподаватель Марина Яковлевна Розен – керамист, прекрасный мастер и удивительно добрый, мягкий человек. Её ровное отношение ко всем присутствующим, профессиональные советы, создавали дружескую атмосферу, наполненную творчеством. Первые уроки керамики мы получили от неё. Она знакомила нас с творчеством известных мастеров-керамистов по книгам. Появилась у нас керамическая печь – камера 30x40. Я стал приобщаться к керамике, видя, какие она таит в себе возможности. Там можно было фантазировать. Особенно мне понравилась работа с пластом. Я увлёкся барельефами: раскатывал тоненькие пласты глины, стеком наводил рисунки, потом расписывал и обжигал эти пласты. Пытался делать крупные барельефы религиозной тематики. В студии появился гончарный круг. Тамара Куренкова первая его освоила и много работала на нём.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: