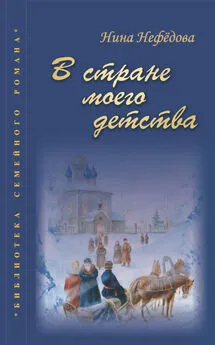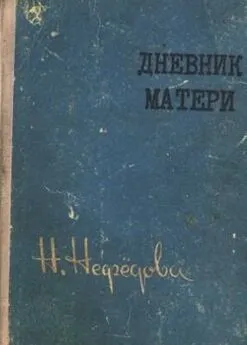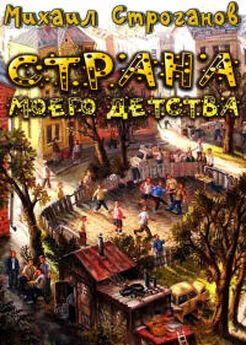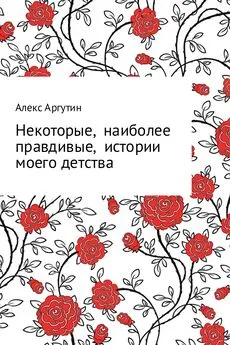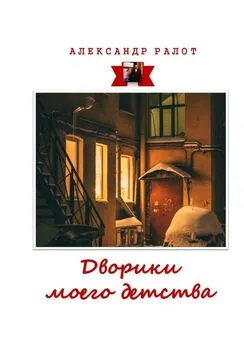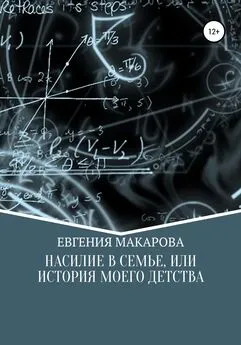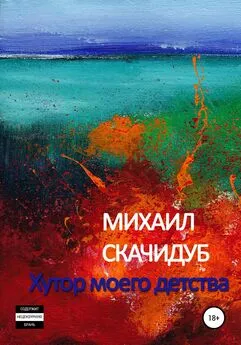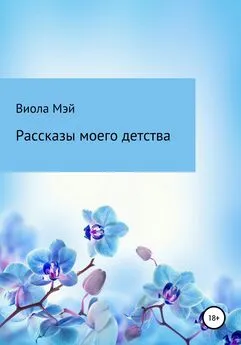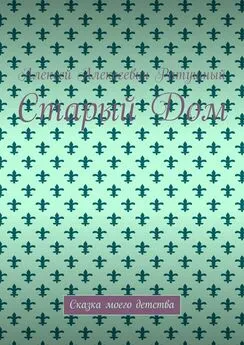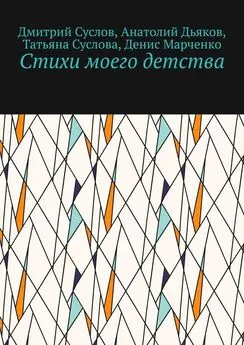Нина Нефедова - В стране моего детства
- Название:В стране моего детства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Родное пепелище»0a919b56-95ea-11e6-b088-0cc47a52085c
- Год:2012
- Город:Нижний Новгород
- ISBN:978-5-98948-044-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Нефедова - В стране моего детства краткое содержание
Нефедова (Лабутина) Нина Васильевна (1906–1996 годы) – родилась и выросла на Урале в семье сельских учителей. Имея два высших образования (биологическое и филологическое), она отдала предпочтение занятиям литературой. В 1966 году в издательстве «Просвещение» вышла ее книга «Дневник матери» (опыт воспитания в семье пятерых детей). К сожалению, в последующие годы болезнь мужа (профессора, доктора сельскохозяйственных наук), заботы о членах многочисленного семейства, помощь внукам (9 чел.), а позднее и правнукам (12 чел.) не давали возможности систематически отдаваться литературному труду. Прекрасная рассказчица, которую заслушивались и дети и внуки, знакомые и друзья семьи, Нина Васильевна по настойчивой просьбе детей стала записывать свои воспоминания о пережитом. А пережила она немало за свою долгую, трудную, но счастливую жизнь. Годы детства – одни из самых светлых страниц этой книги.
В стране моего детства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как ни покажется странным, но эти болезни сыграли положительную роль в моей жизни. Дело в том, что меня все больше и больше захватывала страсть к чтению, а читать было некогда, и только, когда я болела, мне разрешалось читать сколько угодно. Вслед за Пушкиным я «открыла» Некрасова, Гоголя, Чехова, Горького. Читала запоем, стала рассеяна, все валилось у меня из рук, а тут еще надо было вязать чулки. Время было трудное, чулки носились собственного изготовления, и вязка их была для меня сущим наказанием. Чтобы как-то выгадать время для чтения, я забиралась в чулан, поближе к книгам. В руках чулок, а перед глазами раскрытая книга, и я не столько вяжу, как спускаю петли. Заслышав шаги возле чулана, я роняю книгу за сундук и старательно двигаю спицами. В чулан заглядывает бабушка:
– Вяжешь?
– Вяжу!
– Ну, то-то же!
Скоро хитрость моя была разгадана. Уж очень туго у меня подвигалась работа. Младшая сестренка, не умевшая еще читать, заглядывая в щелку чулана, то и дело кричала бабушке:
– Бабушка! А Нина опять в книжку глядит!
– Вот я ее ужо! – отвечала бабушка и стала задавать мне «урки» на день.
У отца была большая библиотека. Именно домашней библиотеке я обязана знакомству с классиками. Со временем отец передал библиотеку в полное мое ведение. Но, передав, потребовал, чтобы я освоила грамоту библиотечного дела. Он даже устроил меня ученицей в поселковую библиотеку, и я много полезного для себя почерпнула за время учебы. А главное, я много читала, знакомясь с теми авторами, книг которых не было в отцовской библиотеке.
Применив на деле полученные знания, я составила полный каталог книг, имевшихся в отцовской библиотеке, на каждую книгу завела карточку и, вообще, держала книги в строгом порядке, ведя учет выдачи их даже знакомым.
Отец и в самом деле был незаурядным человеком, выделявшимся из окружающей его среды. Судить об этом можно было даже по тому, как составлялась им библиотека. Уже не говоря о том, что были в ней все классики в полном собрании сочинений, начиная с Пушкина, Лермонтова, Толстого, Гоголя, были в ней книги Горького, Бунина, Вячеслава Шишкова, Брюсова, Блока, Анны Ахматовой. Как сейчас вижу перед собою тоненькую книжечку ее стихов «Четки», на обложке которой изображена дама в черном, с угловатыми коленями и локтями, с низкой до бровей челкой.
Выписывалось отцом и много журналов. Кроме «Нивы» и «Современника» запомнился журнал «Жизнь», редактируемый Горьким. Если не изменяет память, именно в нем я впервые прочитала повесть Чехова «Моя жизнь». Она потрясла меня, особенно сцена на даче, когда сквозь назойливый стук в окно осеннего дождя из темноты доносится истошное: «Караул!», и Маша, героиня повести, заломив в тоске руки, уходит в спальню, а главный герой по прозвищу «Маленькая польза» остается сидеть у стола и, тупо глядя в журнал с модными картинками, шепчет: «Маша, бедная Маша…» По глупой детской привычке мы не обращали внимания на авторов, кто написал, казалось неважным, важно было само содержание прочитанного. Так и я долгое время не подозревала, что потрясшую меня вещь написал Чехов, мой любимый писатель, а, когда, будучи уже студенткой, узнала, была бесконечно счастлива.
Любила очень стихи Никитина, Некрасова. Последний мне казался даже выше Пушкина. Конечно, Пушкина любила, особенно его сказки, но Некрасов был ближе, понятнее, от его стихов щемило сердце, и на глаза навертывались слезы. Даже перечитывая его «Несжатую полосу», «Арину – мать солдатскую», я не могла удержаться от слез. Лермонтов, пожалуй, тоже нравился больше Пушкина, но его бессмертное «Выхожу один я на дорогу» оставляло пока равнодушным, пленяли загадочностью, романтичностью стихи «В глубоком ущелье Дарьяла…» В подражание Лермонтову я даже сама лет в двенадцать сочинила поэму «Кавказский пленник», где были: «И звон мечей на поле брани, и песни чернооких дев…»
Не исключено, что некоторые строфы ее были заимствованы у Лермонтова, я вся была во власти его стихов, в голове складывались (а может быть, вспоминались) все новые и новые стихи, и порой мне самой трудно было отличить, где мое, а где чужое.
Когда мне было лет восемь, я совершила первый в своей жизни плагиат. Вряд ли в истории литературы был отмечен когда-либо случай столь раннего и столь беззастенчивого заимствования. Дело было так. Однажды, когда вся семья была за столом во время обеда, я, улучив минуту тишины, объявила во всеуслышание:
– Папа, а я стихи сочинила!
– Ну-ка, ну-ка, это интересно! – оживился отец. Он поощрял мое увлечение стихами.
– Одну минуточку, дети! Сейчас Нина прочтет нам свое новое стихотворение. Слушаем, Нина…
Все повернулись ко мне. Чувствуя на себе взгляды, полные любопытства, я проглотила слюну и каким-то сдавленным, не своим голосом прочитала:
– Зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь…
Рука папы с вилкой, которую он подносил ко рту, так и застыла в воздухе. Глаза были полны недоумения, вопроса. Он не знал, что и подумать обо мне. Зато мама была безжалостна:
– Это же стихотворение Пушкина! Как не стыдно тебе выдавать его за свое!
– Нет, нет, Анюта! Зачем же так резко, – испуганно проговорил папа, – я убежден, Нина ничего не хотела приписывать себе. Это вышло у нее нечаянно. Вероятно, она когда-то слышала это стихотворение, две строчки врезались в ее память, а потом ей показалось, что она их сочинила. Так бывает…
Я сидела красная, низко опустив голову, боясь поднять глаза, мне было мучительно стыдно перед отцом, и в то же время я была благодарна ему за то, что он заступился за меня. Отец, отчасти, был прав. Я много читала для своего возраста и читала без разбору. На авторов книг не обращала никакого внимания. И вот однажды в журнале «Мир Божий» в какой-то повести я наткнулась на двустишие: «Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь». В двух строчках мне открылся целый мир настроений и чувств. В самом деле, при слове «зима» разве не встает перед нами картина нашей чудесной русской зимы? Снег большими хлопьями медленно кружится в воздухе, и мягкий, пушистый стелется на землю. Лес стоит торжественный, тихий. Тронешь ветку, она качнется, обдаст тебя снежным каскадом, и снова тихо, тихо в лесу, как в заколдованном царстве. «Крестьянин торжествуя…» Конечно, мужик рад, ему надоела осенняя слякоть и бездорожье: ни дров привезти, ни за сеном съездить. «На дровнях…» Наконец-то, можно поставить эту дребезжащую, вихляющуюся туда-сюда по выбоинам дороги телегу под сарай и запрячь лошадь в сани. «Обновляя путь…» Перед глазами, точно наяву лежит ровная снежная простыня, и на ней далеко в даль протянулись следы только что проехавших саней…
Так думала я, снова и снова вчитываясь в поразившие меня строчки. Я не знала тогда, что их написал Пушкин. Мне казались они настолько просты и естественны, что их мог сказать каждый, в том числе и я. Вот почему я не очень грешила против правды, когда заявила, что их написала я. Они органично вошли в мое сознание. Но все-таки это был самый настоящий плагиат, и я всегда с краской стыда на лице вспоминала о нем. Стихи я не забросила, продолжала писать их. Мои «вирши» появлялись даже в школьном рукописном журнале «Огонек», но это были стихи о природе, о смене времен года. Свои «байронические» поэмы я стеснялась показывать даже отцу, они были нечто вроде дневника, в них выражались мои настроения, чувства. В пятнадцать лет я увлеклась поэзией Надсона. Для меня до сих пор остается загадкой, почему Надсон, поэт муки и отчаяния, был мне так созвучен в те годы. Ничего надсоновского, надломленного не было в моей жизни. Я была здоровая краснощекая, жизнерадостная девочка, воспитывалась в нормальной семье с хорошими моральными устоями. Писала же я такие стихи:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: