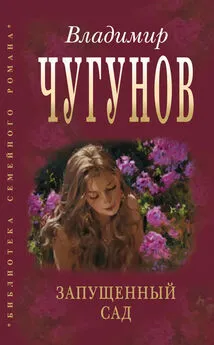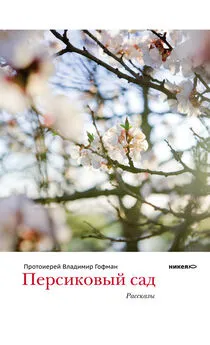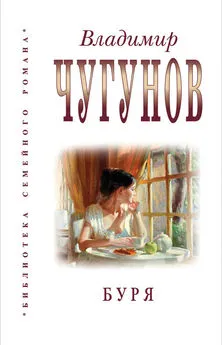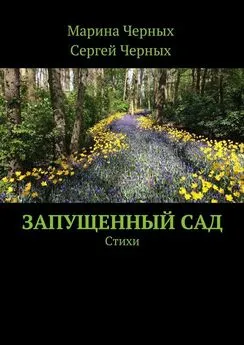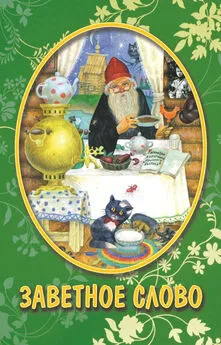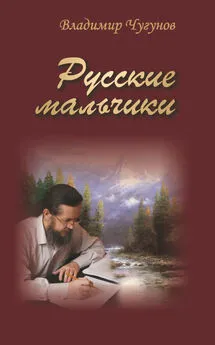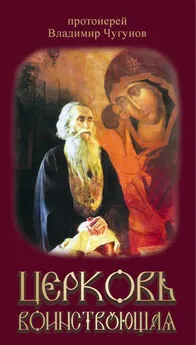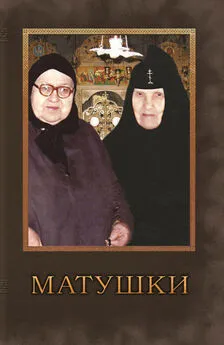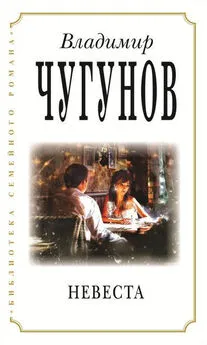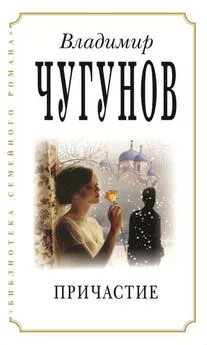протоиерей Владимир Чугунов - Запущенный сад (сборник)
- Название:Запущенный сад (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Родное пепелище»
- Год:2016
- Город:Нижний новгород
- ISBN:978-5-98948-064-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
протоиерей Владимир Чугунов - Запущенный сад (сборник) краткое содержание
Запущенный сад (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В связи с этой историей припоминается инсценировка о войне. В светлом коридоре старой деревянной школы накидали на пол сена и устроили что-то вроде партизанского лагеря. Девчата в раздобытых где-то гимнастёрках и пилотках кружком сидели у декоративного костра, над которым висел котелок, и пели военные песни. Представлялась этакая романтика войны. Мы даже не задумывались о том, что война – это мухи, вьющиеся над смердящими трупами, оторванные ноги и руки, море вшей, грязь, болезни, иначе – такое, что нельзя передать словами, невозможно изобразить, и даже сами фронтовики охотно бежали от пережитых ужасов в романтический вымысел киношных и детских постановочных войн. А если подумать, даже порежь палец, когда разнесёт, ведь белый свет не мил. А тут – пуля, дай Бог, если навылет, а то и засядет, или осколком снаряда срежет кисть руки, разворотит живот, оторвёт ногу на мине, обожжёт до неузнаваемости лицо в горящем танке. Всё это я понял гораздо позже, хотя, может быть, и раньше, глядя на инвалидов Великой Отечественной, догадывался, почему не показывают в кино и не пишут на полотнах ужасов войны. Даже в военной кинохронике их в меру – как демонстрация зверств нацизма. А покажи всё, как есть, ни в кинозале не высидишь, ни дома картину такую не повесишь. Это уже потом, позже появятся выставки с изображением инвалидов Великой Отечественной, сначала голливудское, а затем и наше натуралистическое кино.
Моё поколение ещё застало инвалидов войны, собиравших подаяние в пригородных поездах и на базарах – на каталках, на протезах, с гармонями, балалайками. Потом они куда-то исчезли. Куда именно – никто не знал и вопросом таким не задавался. Ну, исчезли и исчезли. Неумолимое время стирало из памяти ужасы недавней войны, запрещалось (или не смели?) показывать их в кино, изображать на полотнах, описывать в литературе. Короче, запрещался весь тот натурализм, который, подобно помоям, обрушится на неподготовленного зрителя и читателя в девяностые.
По сравнению с другими, были мы, наверное, всё же поколением счастливым, которому достались в удел всего лишь остров Даманский («На Уссури под солнцем тает лёд. / Зима сгустила голубые краски./ Под лёд ушёл семидесятый год /– тех, кто погиб на острове Даманском») да взбунтовавшаяся Чехословакия, младшим братьям пострашнее – Афганистан, детям ещё более отвратительная по причине повального предательства, – Чечня. Что достанется внукам – судя по тому, что происходит сейчас в мире, не могу даже представить.
Ещё припоминаю, как на одном из школьных утренников Кеша прочитала забавное стихотворение, которое, наверное, поэтому осталось в памяти.
У меня трусы в горошек – хороши да хороши!
Все мальчишки приставают: покажи да покажи!
Ну, а ты, большой дурак, что не приставаешь?
У меня трусы в горошек – разве ты не знаешь?
Но ещё более вдохновенно в старших классах, разумеется, читала популярные в те годы стихотворения слепого Асадова («Парень со спортивною фигурой. / И девчонка – робкая душа…», «Они студентами были, они друг друга любили…») По рукам ходили затрёпанные книжечки сборников его стихотворений. Тёмные очки придавали его поэзии нечто романтическое.
2
Вряд ли этапами нашего взросления можно считать табеля успеваемости. Были тогда такие коричневатые складные открытки из рыхлого картона, с пятью столбиками успеваемости – четыре четверти, годовой итог и в самом низу отметка по «поведению». В младших классах, практически, у всех – примерное. Поэтому только с пятого или даже с шестого класса, когда мы узнали, что такое второгодники, в нас стало проявляться то, что принято называть характером. Проявлялся он помимо и даже вопреки тому, что на протяжении многих лет методически сеяли в наши души. Я не о знаниях, а о так именуемом долге. Все же тогда были перед любимой Родиной и Партией в неоплатном долгу. Октябрята, пионеры, комсомольцы – все должны были быть честными, принципиальными, непримиримыми, верными, целеустремлёнными… И во всём этом торжественно клялись. В стенах школы, на уроках, пионерских собраниях, слётах, митингах из говорильных дырок всё вроде бы правильно говорилось, и никто с этим даже спорить не собирался, но стоило выйти за пределы школы или зайти в мужской туалет, не только из говорильных дырок и носа, но даже из ушей некоторые ловкачи умудрялись табачный дым пускать. Писали или царапали на стенах и дверях неприличнейшие слова, связанные, как правило, с собственным происхождением (никаких аистов и никакой капусты!), играли в трясучку на деньги, безжалостно расстреливали невинных птичек из рогаток, зорили вороньи гнёзда, топили в норах полевых мышей, вели перестрелку бузиной из осиновых трубочек на переменах, подкладывали друг другу кнопки на сиденья парт, кропили чернилами уши впереди сидящих одноклассников с помощью расчёски и пера, и даже вместо уроков, сидя на замызганных портфелях в совхозном саду, играли в свару на деньги. Всё это считалось взрослой жизнью. И тех, кто не желал в ней участвовать, презирали, дразнили маменькиными сынками и даже били. Касалось это в основном нас, мальчиков. Девочки жили своей отдельной от нас жизнью. Разумеется, со всем этим безобразием боролись – осуждали, порицали, ставили на вид, выводили к доске, вызывали родителей, отсылали к директору школы, стыдили, оставляли на второй год, грозили детской колонией, старались хоть чем-нибудь занять. Кому-то помогало, кому-то не очень, а кому-то на всё это было глубоко наплевать. Поэтому только после восьмого класса, когда, наконец, схлынули все эти неучи и хулиганы, нас перестали делить на учеников из благополучных и не благополучных семей.
В те годы мир, рисуемый школьными учебниками, средствами массовой информации, кинематографом, большинству из нас представлялся таким чистым и светлым (во всяком случае, его будущая ипостась), что хамы воспринимались, как нечто пещерное, недоразвитое и отсталое. Не так уж и много их было (большинство просто подпадало под дурное влияние и лишь единицы росли в соответствующей обстановке), но именно эти хамы задавали тон поведения в подростковом периоде. «Не ходи к ним, не дружи с ними» – это мы слышали от своих родителей постоянно. Родители не понимали, что не ходить и не дружить – означало ни больше, ни меньше, как сидеть дома и не высовывать носа на улицу, а больше и ходить было некуда. В подростковый период, казалось, вообще без общения с ними нельзя было шагу ступить. И стоило прикоснуться, не столько затягивало, сколько давало тем повод и даже право считать тебя им обязанным. От этих прав и обязанностей страдало в основном среднее школьное звено, и только в старших классах наступала относительная свобода.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: