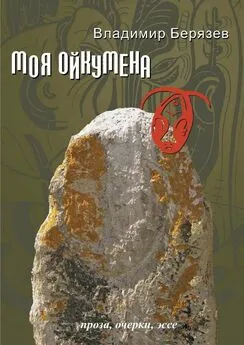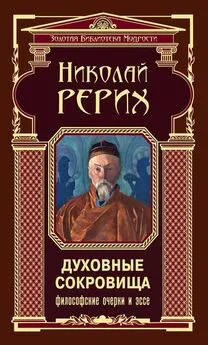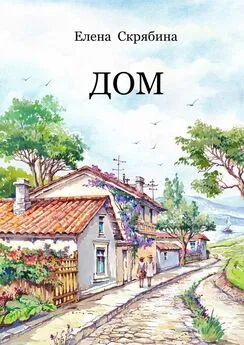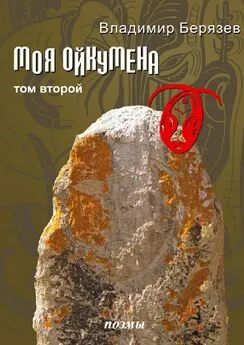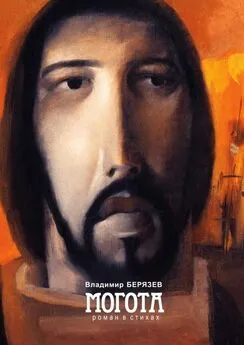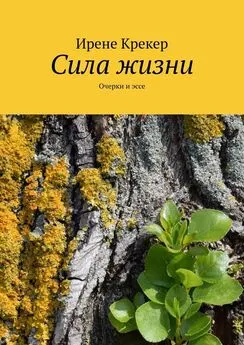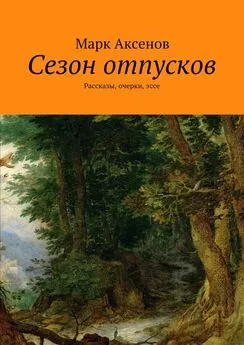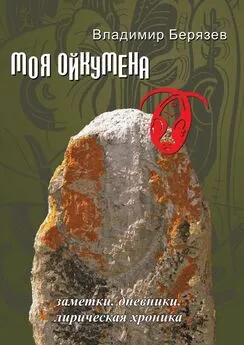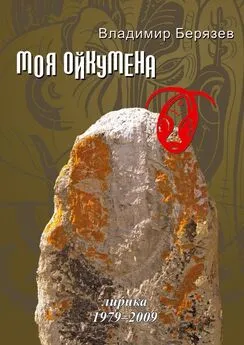Владимир Берязев - Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе
- Название:Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448375279
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Берязев - Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе краткое содержание
Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И не стать уже ни опытней, ни старше,
Не удобрить, не посеять, не отцвесть,
Коль не ведаешь кровей и вешек Рода…
А окликнул тебя атом дорогой,
И смиряется звериная порода,
Распускается пространство под рукой,
Распускается, как горная фиалка,
Словно царство из пасхального яйца,
И уже и жизни прожитой не жалко,
Знаешь точно – нет у ней конца.
Таким «атомом дорогим» становится для лирического героя поэмы девятилетняя девочка Пелагея с удивительной силы и чистоты голосом, пение которой потрясло его душу, вызвав лавину воспоминаний и ассоциаций, связанных как с собственным прошлым, так и с временами более древними.
Поэма «Пелагея» невелика, но очень емка и насыщена. По сути это – философско-поэтическая притча. В каких-то моментах (например, в размышлениях о Роде как стержневом начале человеческого бытия) «Пелагея» перекликается и со «Знаменем Чингиса», и с рядом других произведений В. Берязева.
В. Берязев продолжает целеустремленно осваивать эпический жанр. Недавно им написана поэма «Псковский десант», посвященная героям-десантникам, погибшим в Чечне. Продолжает он и работу над романом в стихах «Могота», первые части которого уже опубликованы в журнале «Сибирские огни».
В. Берязев известен не только как поэт, но и как публицист, автор очерков, эссе.
Впрочем, употреблять в данном случае оборот «не только как» будет, наверное, не совсем точно и корректно, ибо В. Берязев, если говорить в целом о его творческом облике, – отнюдь не двуликий Янус с диаметрально противоположными физиономиями. И стихи, и проза его – это две стороны одной медали, одного художнического явления, два крыла единого живого творческого тела. Они то и дело пересекаются и взаимопроникают, оставаясь в русле единого художественного потока: стихи время от времени врываются в прозаический текст, привнося в него дополнительную эмоциональную струю, но и в них, как выше отмечалось, нередки и отчетливый публицистический пафос, и социальная заостренность, больше свойственные прозе, что, однако, не мешает оставаться им в «стойле Пегаса». В свою очередь, и ритм, и образность, и стилистика очерков и эссе В. Берязева говорят о том, что это – проза поэта.
Обычно, как известно, поэтов «к суровой прозе» клонят года. В. Берязева к такого рода пиитам, вынужденным по причине поэтической импотенции менять творческую квалификацию, не отнесешь. Во-первых, как говорилось, потому что он продолжает активную стихотворческую деятельность. А, во-вторых, – с младых ногтей поэзия и проза у него идут бок о бок. Более того, бывали нередко случаи, когда одна и та же тема, один и тот же материал находил отражение и в поэтической, и в прозаической форме. Так, к примеру, поездка В. Берязева в Могочинский монастырь на севере Томской области закончилась не только написанием очерка о монахах этой обители, но еще и дала толчок к созданию масштабного поэтического творения – романа в стихах «Могота».
Что же являет собой проза поэта В. Берязева?
«Путешествуйте, путешествуете!
Человек должен перемещаться в пространстве для того, чтобы встретиться с самим собой. Человек должен ехать туда, где его ждет другой человек – пусть очень непохожий на него, но близкий. Любовь и творчество – не что иное, как тоска пространства, некий симфонический сквозняк души перед чудом земли и величием звездного купола».
Так начинается один из очерков прозаического тома В. Берязева
(«Калбакташ – место духа»). И этот зачин настраивает читателя на определенную волну – волну путешествий. Вот и подзаголовок очерка «Моя Ойкумена» – «Путешествие в четыре стороны света» это подтверждает.
Про «четыре стороны света» – если и преувеличение, то небольшое. География путешествий, описанных автором, действительно весьма обширна и разнообразна. Это и Горный Алтай, и Хакасия, и Среднее Приобье, и Бараба, и Германия, и США…
Но дело не в географии как таковой. По признанию В. Берязева, ему вообще «для жизни вполне хватит вотчины радиусом в тысячу верст – это и есть Сибирь, – земля настолько обширная и разнообразная, что множество уголков ее можно открывать для себя бесконечно. Что, собственно, автор в своих очерках и делает. Даже там, где рассказывает о своих поездках в далекие от Сибири – в Америку, скажем, или Саксонию.
Но открываются не только неведомые писателю земные уголки. Он и себя самого в таких путешествиях как бы заново открывает, и на все остальное вокруг начинает другими глазами смотреть. Поэтому перед нами не просто путевые заметки, каковыми они по жанру и являются, а некое своеобразное лирико-философское постижение бесконечно расширяющегося пространства и соотнесение с ним человеческого бытия. То есть налицо уже знакомый нам по стихотворным произведениям В. Берязева космогонизм, который сам поэт называет неким «симфоническим сквозняком».
Хотя понимать это определение можно и несколько иначе: например, как полифонию ощущений, рождаемых бесконечным в своих проявлениях «чудом земли».
А ощущения владеют В. Берязевым самые разные. Но, в первую очередь, наверное, все-таки – восторг. Священный, трепетный, порой доходивший прямо-таки до религиозного экстаза восторг перед красотой, величием и мощью природы, перед ее подчас чуть ли не мистической загадочностью. В этом нетрудно убедиться, прочитав очерк «Моя Ойкумена», давший название всему прозаическому тому. Здесь читатель встретит немало замечательных пейзажей Горного Алтая, Барабы, Хакасии… Чего стоит хотя бы картина грозы над Барабинскими озерами (существует, кстати, и стихотворный вариант этого описания):
«Сначала вдруг исчезло солнце.
Вся южная сторона неба вдоль горизонта принялась темнеть, наливаясь свирепым фиолетом, над образовавшимся темным фронтом как бы сами собой возникали новые дымчато-белесые тучи и тут же поглощались валом наступающей стихии.
Стало совсем тихо. Картина разворачивалась словно, в немом кино. Тьма накатывала с размахом, далеко охватив и восток и запад, так, словно вырывалась из причудливых миров Толкиена, так, словно по воле грозного кайчи, ожили силы алтайского эпоса Маадай Кара…
Грозовой фронт вступил в соприкосновение с ближайшими, доселе спокойными, слоями воды, он как бы слизал светлую гладь и привел в движение растительность по берегам. Стал накрапывать дождь…
Чернота, уже пыталась досягнуть до зенита. Фиолетокудрое воинство, подобно полчищам Дария, выпускало перед собой серые стремительные стрелы перистых туч. Эти стрелы, накрыв нас тенью, уже смыкались в сплошной покров, но и он был разодран в клочья сухим треском электрического разряда, который, словно камень, пущенный из пращи, сначала шелестел, шкворчал, рикошетил, и, наконец, словно тупое гулкое бревно, ударил в землю прямо перед нами, ослепляя, сотрясая до самого снования, почти лишая сознания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: