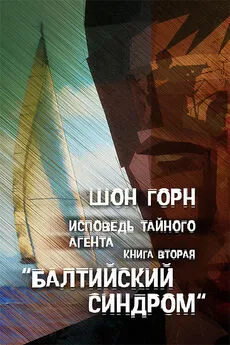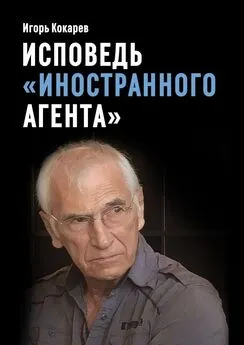Игорь Кокарев - Исповедь «иностранного агента». Как я строил гражданское общество
- Название:Исповедь «иностранного агента». Как я строил гражданское общество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448536649
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Кокарев - Исповедь «иностранного агента». Как я строил гражданское общество краткое содержание
Исповедь «иностранного агента». Как я строил гражданское общество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тем временем на меня пришла анонимка. Местный особист показал. Читай, говорит.
Читаю: «Сообщаю вам, что никакой этот Кокарев не моряк. Ни в какой одесской мореходке он не учился. Заграницу не плавал. Диплом поддельный. Это проходимец, который морочит нам всем голову. Считаю, что им надо заняться органам».
– Что это такое? – спрашиваю. – Как что? Обыкновенная анонимка. Не на тебя одного. Как раньше писали, так и сейчас пишут. А ты не знал? Так что разоблачили тебя, вожак комсомольский.
Думаю, шутит особист? Он-то знает, что перед решением ЦК о назначении на стройку мое прошлое не раз рентгеном просветили. Но из головы не выходит: кто? Зачем? Чего и с кем не поделил? Вот так, значит, выглядят доносы. Сейчас смешно, а ведь еще недавно такой бумажки, нацарапанной неизвестно кем, может быть и соседом, было достаточно, чтобы попасть под раздачу. Расстрел или десятка в лагерях, через этот кошмар прошли миллионы…
Нет, хватит. Кто-то хотел меня запугать? Ладно. Уж пострадать, так чтобы было за что. И раз уж анонимки пошли, надо торопиться. Сажусь и пишу в «Джамбульскую правду» открытое письмо. Что-то вроде того, о чем говорил на Пленуме. «Кладовая фосфоритов все еще на запоре». Назвал и мучился. Как донос, значит, получается? А то, что молодежь кинули, выходит, и «Комсомольская правда» и местное начальство – это как называется? Молчать – значит покрывать. Я подписался своим именем. Ночами, во сне видел себя героем Евгения Урбанского из фильма «Коммунист», фанатиком, валившим голыми руками на морозе могучее дерево для топки замерзшего в пургу паровоза. Все оправдывался перед собственной совестью?…
Не выдержал, в письме пославшему меня Вадиму Чурбанову написал о своих сомнениях. Была в том письме и такой пассаж: «Поднять народ на хорошее дело, Вадим, мы умеем. Здесь тысячи энтузиастов. А вот зачем? Зачем только „Комсомолка“ тем сентябрьским номером всколыхнула страну? Приехали тысячи, хотя и сотни бы хватило. Да ведь и сотня здесь не нужна… Из пушки по воробьям!»
Вместо ответа передал Вадим то письмо в «Комсомольскую правду». И настоял, чтобы напечатали. И что? Снова, как в вату. Почему глохнут наши инициативы? Хорошо, что эту историю комсомольцев-добровольцев мои давние собеседники – американцы Диана и Джим на белокрылой «Литве» никогда не прочитают…
Шаг за шагом выходил из меня, уходил в историю мой Папка Корчагин. Вяли красные розы, осыпались лепестки иллюзий. Тихо, без фанфар, разъезжались золотые ребята, кто куда. Домой стыдно, хорошо страна большая. Куда деваться нам, Родина?
Разрешить сомнения должна была корреспондентка «Комсомольской правды», прилетевшая из Москвы после той публикации. В ситцевой коротенькой юбчонке показывала она днем свои загорелые ноги, а вечером, сев за стол напротив и разговаривая с Володей о мировых проблемах, мягкой босой горячей ступней нащупала под столом у меня то место, которое сразу затвердело и заныло от желания. Володя, инженер, к которому я заходил поиграть в шахматы и поговорить о жизни, все быстро понял, постелил нам на полу и ушел.
– Ты всегда такой серьезный? – спросила корреспондентка, деловито раздеваясь. – Мне говорили в редакции. Я не верила.
– А ты вообще, вы вообще там, в Москве во что – то еще верите?
Больше мы с ней ни о чем не разговаривали.
А отчаянный мой вопль в «Джамбульскую правду» имел неожиданное продолжение. Сам Петр Качесов, секретарь Горкома партии нашел меня:
– Ты приходи вечером. Разговор есть, – и дал адрес.
Я пришел к нему домой. Сели. Бутылка водки на двоих – это немного. Выпили. Закусили. Закурили. Я курил тогда по пачке «Примы» в день. Помолчали. Наконец, он, вздохнув, подвел итог молчанию:
– Уезжай ты отсюда, прошу тебя. Хороший ты, наверное, парень. Но… не мути воду, ведь закроют стройку из-за твоих статей. И что, думаешь, лучше будет? Обещаю: чего-нибудь да построим. Не в первый раз. А ты уезжай учиться куда-нибудь. Дадим тебе хорошую характеристику. Прости фронтовика. – И голос его дрогнул. Или мне показалось?
Через годы сведет меня случайная встреча с жителем тех мест и тот расскажет, во что превратится комсомольская стройка 60-х. В 90-х покинут дома оставшиеся без работы люди, и будет он стоять вымершим, с разбитыми ветрами окнами. Не сдержал слова грустный фронтовик…
Глава 4.
ВГИК.
Мои университеты
В ЦК ВЛКСМ завотделом Куклинов вопросов не задавал: молча закрыл командировку и подписал направление на учебу. Я внял совету комсорга ВГИКа Юры Гусева и попросился во ВГИК. Мог ли я мечтать о знаменитом на весь мир институте кино, где делают звезд? А я и не мечтал. Вопрос был решен в секунды ректором ВГИКа Грошевым. Он как будто даже уговаривал:
– У вас же есть высшее образование? Рабочий английский? Так вот давайте, почитайте историю кино и сдавайте вступительные в аспирантуру на киноведческий факультет. У нас как раз появилось место по социологии кино. Согласны?
Что-о?! Аспирантура? Киноведческий? Сразу в аспирантуру? Согласен ли я?! Да, конечно. Хотя лучше бы на режиссерский. И на первый курс. Но боясь спугнуть судьбу, беспрекословно принял то, что предложено. Сказано же, от добра добра не ищут. Еще неделю назад я не знал, что делать со своей неудавшейся жизнью. Куда возвращаться и возвращаться ли вообще. Не разбрасывайся, хлопчик! – говорила моя учительница. А я разве разбрасываюсь? Это только гениям все ясно с самого начала. Киноведческий, так киноведческий. Дайте только освоиться. Оглядеться.
Оглядываюсь. Навстречу идет Саша Лапшин, улыбается:
– Ты что здесь? – он удивлен не меньше меня.
– А ты?
– Я на сценарном, у Киры Парамоновой.
– А я вот… поступаю в аспирантуру, на киноведческий.
Белобрысый друг мой, Саня! Как же ты во-время! В одесской ДСШ №1 прошли мы вместе путь от неловких тонкоруких подростков до мастера спорта. Потом разлетелись в разные стороны. Он – в Институт физкультуры, работал тренером в далеком сибирском городке, стал писать о своих воспитанниках, юных гимнастах. Кто б подумал!
Саня быстро убежал куда-то на просмотр, а я пошел в библиотеку. За две недели историю кино выучил, как красивую сказку, все же не краткий курс КПСС. Валить меня, видимо, задания не было, так что вскоре был зачислен аспирантом с общежитием. Началась новая, удивительная жизнь сначала. Как пролетят три года аспирантуры, я и не замечу.
Высокий, распрямленный, с красивой седой головой, профессор Лебедев – мой научный руководитель. Николай Алексеевич – патриарх советского киноведения, с 1921 года журналист, редактор «Пролеткино», режиссер, сценарист, ректор ГИТИСа и ВГИКа, прекрасный педагог, автор классических книг по истории кино. Он сразу задал мне направление, тему: кино и зритель, жизнь фильма в обществе. Патриарх еще помнил ту социологию и хотел ее возродить. Угадал Николай Алексеевич. Киноведом я бы никогда не стал. А социологом… Пожалуй, это та профессия, которой не было еще в справочниках, но она заменила мне мою мечту, журналистику.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: