Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке
- Название:Дарвинизм в XXI веке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ACT, Corpus
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-112710-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке краткое содержание
Дарвинизм в XXI веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
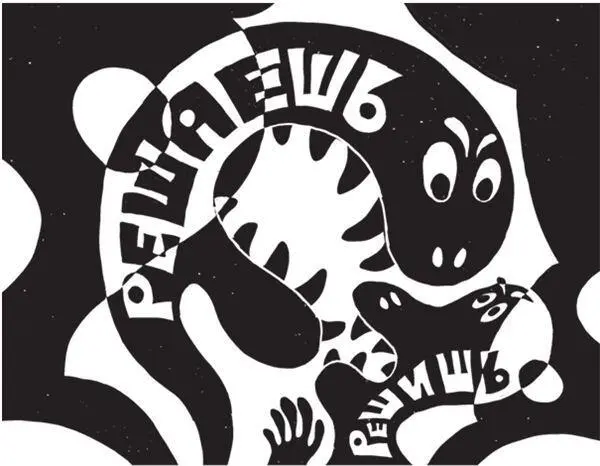
Итак, допустим, с конкуренцией в языке все в порядке, но вот вопрос: что считать аналогом приспособленности ? К чему приспосабливаются слова, части слов, грамматические конструкции и формы? Чем форма «решаю» выгоднее формы «решу»? В чем состояла слабость звательного падежа — особенно если учесть, что потребность в таком падеже у языка явно есть [232] Это видно хотя бы из того, что современный разговорный русский язык широко использует именно в качестве звательного падежа специфические «укороченные» формы личных имен (как правило, уменьшительных), грамматически относящихся к первому склонению: «Вань», «Зин», «Саш», «Миш» и т. п. (благодарю доктора филологических наук С. А. Бурлак за указание на этот феномен).
?
Можно, конечно, сказать: раз, мол, какой-то элемент языка вытесняется другим, значит, этот другой более приспособлен. Но «приспособленность», понимаемая таким образом, — это та самая тавтология, в которой любят «уличать» дарвинизм его идейные противники: дескать, дарвинисты утверждают, что выживают и размножаются наиболее приспособленные, но при этом приспособленными считают тех, кто успешнее других выживает и размножается — создавая тем самым замкнутый логический круг [233] Авторы, пишущие о сходстве биологической и лингвистической эволюции, обычно словно бы не замечают этой проблемы. «В то время как популяции генетически меняются посредством естественного отбора (а иногда и генетического дрейфа), человеческие языки меняются посредством лингвистического отбора (люди изобретают новые слова, которые им нравятся или для чего-то нужны) и лингвистического дрейфа (произношение изменяется вследствие имитации и культурной трансмиссии)» — пишет, например, уже знакомый нам профессор Джерри Койн. Вопросы, насколько словотворческая деятельность людей соответствует мутационному процессу, чем именно «новые слова» адаптивнее старых и как меняются нелексические стороны языка, профессор Койн не рассматривает.
. В биологии этот упрек несостоятелен: в целом ряде случаев (см. главу «Отбор в натуре») мы можем указать на конкретные качества, позволяющие обладателям одних генотипов выживать и размножаться успешнее, чем обладателям других, и доказать это прямыми экспериментами. Проще говоря, мы можем сказать, чем именно для данного вида птиц толстый клюв лучше тонкого (или наоборот), а для данного растения неопадающие семена лучше опадающих. Можем ли мы — хотя бы опять-таки для некоторых случаев — указать что-то подобное для конкурирующих элементов языка?
Лингвисты установили, что преимущественные шансы на вытеснение конкурента имеет тот элемент (слово, грамматическая форма и т. д.), который уже чаще употребляется — «имущему дастся, а у неимущего отнимется». Но ведь это соответствует не дарвиновскому отбору, а генетическому дрейфу: чем ниже частота того или иного аллеля, тем выше шансы, что он будет вовсе потерян за счет чисто случайных процессов! С другой стороны, эта закономерность явно не универсальна — иначе как тогда вообще входили бы в язык новые элементы? Ведь в начале этого процесса они должны быть очень редкими. В биологии случайным утратам редких аллелей противостоит непрерывный мутационный процесс — а в языке что?
Другая модель языковых изменений, разработанная в 1930-х — 1950-х годах в основном Евгением Поливановым, Романом Якобсоном и Андре Мартине, постулирует в качестве их причины экономию усилий. Согласно этим взглядам, всякий говорящий невольно стремится минимизировать свои усилия: сливает воедино соседние звуки, «проглатывает» избыточные части слов, не необходимые для их распознавания, сокращает длинные слова (так, в русском языке «метрополитен» превратился в «метро», а «кинематограф» — в «кино») и т. д. Однако у этого процесса есть предел, когда элементы речи упрощаются и сливаются настолько, что слушающему становится трудно их понимать — и тогда «съежившееся» слово так или иначе наращивают (например, суффиксами). За несколько таких циклов слово меняется до неузнаваемости, а от исходного слова почти ничего не остается [234] См., например, великолепный разбор «исторического» состава русского слова «свинья» в лекции А. А. Зализняка.
. Не вдаваясь в подробное обсуждение этой модели (все-таки эта книга — не о лингвистике), заметим только, что описываемый ею процесс не только не похож на естественный отбор, но и вовсе не имеет очевидных аналогов в биологической эволюции.
Вообще, если присмотреться, принципиальных различий в том, как устроены живые организмы и человеческие языки, едва ли не больше, чем сходств. У языка нет ничего, что можно было бы считать аналогами генотипа и фенотипа. У языков (если считать их аналогами видов) не бывает «симпатрического видообразования», то есть развития в самостоятельные виды внутривидовых форм, обитающих на одной и той же территории: социолекты [235] Социолект — жаргон какой-либо профессиональной или/и социальной группы. Например, уголовный жаргон (феня), жаргон музыкантов, морской жаргон и т. п.
, в отличие от диалектов, никогда не превращаются в полноценные языки [236] Причины этого в общем-то ясны: если биологическая особь получает гены только от своих родителей, то носитель языка («языковая особь») учится языку не только от родителей, но и от всех окружающих его носителей языка. Никакая социальная группа, проживающая внутри большой общности, никогда не может обеспечить такую степень изоляции от последней, чтобы дети вообще не слышали речи представителей других социальных групп — это возможно только при территориальной разобщенности.
. В главе «Стабилизирующий отбор: марш на месте» мы говорили о видах, словно бы выпавших из эволюции на миллионы, а в отдельных уникальных случаях — на сотни миллионов лет. Насколько можно судить, с языками такого не бывает никогда: скорость эволюции разных языков и в разные периоды может сильно различаться, но языков, которые вовсе избежали бы видимых изменений хотя бы в течение нескольких столетий, по-видимому, нет (за исключением разве что мертвых). Что наводит на мысль об отсутствии в языковой эволюции какого-либо аналога стабилизирующего отбора. Этот список можно продолжать и дальше, так что само по себе то, что механизмы эволюции языков и биологической эволюции не совпадают, в общем-то, не удивительно [237] Подробнее о неприложимости модели биологической эволюции к эволюции языка можно прочитать в статье С. А. Бурлак, которая так и называется — «Эволюция языка: почему к ней неприменим биологический подход?» ( https: // docs.google.com / document / d /1 mRBiIOjE 51 RLyEvBim 7 xE-Pq_wdKNSsax 1 M 4 b_ sezpk / edit ).
.
Интервал:
Закладка:









